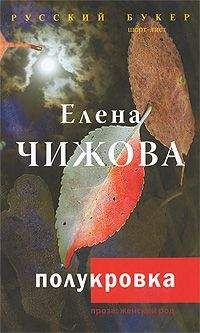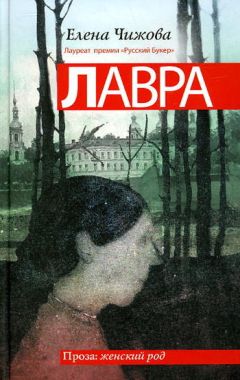Уши не обманули меня: под живым и сильным голосом, глубоко, на самом его дне, таилась странная, неизбывная интонация - та, которую я, по короткому несвязному отрывку, приняла за плачущую. Под живым голосом, укрытые ясными, но противоречащими друг другу словами - библейскими и современными, - стояли бесстыжие стены страха. Я слушала и снова перематывала назад: мне нужно было время, чтобы свыкнуться. Слова бежали, исчезали и снова появлялись. Господи, я думала о том, что радостное оживление мужа, с которым он встречал свою новую деятельность, похоже на недомыслие. Теперь я видела по-другому: дух, измученный видом страшного, похожего на призрак, сидит за общим столом, надеясь, хоть на какое-то время, укрыться за их обыденным весельем. Это страшное он скрывал от них, держал их в неведении. Сам-то он видел воочию и не отбрасывал видимое, не заслонялся чужим милосердным сиянием. Перед призраком не закрывая сосредоточенных глаз - он вставал окруженный двумя рядами оцепления. Эта странная сцена, которую я представила, показалась мне похожей на другую - из "Гамлета": принц, окруженный стражниками, выходит из круга, чтобы встретиться с призраком отца, - встретиться, чтобы отомстить. Литературное сравнение укрепило меня. Снова я чувствовала твердое, на котором крепко и надежно стояли мои ноги. Пленка крутилась и крутилась. Я больше не останавливала.
Не кабинет, в котором я представляла себя сидящей, - прежняя комната, убранная к пасхальной трапезе, встала предо мною. Сидя за пасхальным столом, на своем прежнем месте, я переживала заново, словно случившееся было записано на пленку, которую можно было перемотать. Священники, похожие на придворных, сидели за столами, однако праздничная радость, разлившаяся по их лицам, больше не обманывала меня. Их глаза были пусты. Шум, похожий на ветер, гулял за стенами комнаты. Они сидели перед полными тарелками, на которых, беззаконно надкушенные со многих сторон, лежали чужие маленькие просфорки. Теперь я поняла: эти просфорки не были надкушенными. Они сами, своими неразборчивыми руками, вынули из них частицы хлеба - за всех, без разбора. Вынули и опустили в Чашу, где эти частицы убийц и убитых соединились в Теле и Крови Христовой. Он помнил об этом каждый день, а значит, - я догадалась, предвосхищая, должен был попытаться разъединить. В память об отце, по обязанности своего рождения. Нет, это невозможно. Владыка не был принцем. Всего, чего он достиг, он достиг не по рождению, - сделал карьеру.
Странная мысль шевельнулась в моей затуманенной голове. Я попыталась представить себе, что бы сделала я, если бы не ему, а мне примыслилось разъединить. Едва попытавшись, я поняла ясно, словно услышала разгадку. Единственный выход не допустить соединения частиц - съесть их самому, сквозь сонную пелену я вспомнила слово: потребить. Однажды муж рассказывал мне об этом, но тогда я не придала значения. Священники всегда доедают то, что остается в Чаше, Тело и Кровь: выливать нельзя, они потребляют, доедая и допивая в алтаре. Так они делают всегда, но после, когда ничего уже нельзя поделать, а он- он должен делать это заранее, так, как сделал однажды - в детстве. Надкусать просфорки - своими собственными зубами вынуть частицы за убийц - вынуть и проглотить. Господи, вот он - Митин разрыв, пропасть, шизофрения: по долгу карьеры он обязан был вынуть, по долгу рождения проглотить. Проглоченные, они должны лежать в нем - в его теле и крови. Но если так, - какой-то нелепый сонный вопрос поднимался во мне, - сколько частиц нужно отъесть, чтобы тело, смешавшись с их частицами, изменилось целиком, превратилось в их тело? Ответ я не успела услышать. Створки двери распахнулись беззвучно. Он вошел, приветствуя собравшихся, и за ним, стайкой почтительной свиты, в комнату вступили комсомольцы, среди которых я в тот же миг узнала своего - безобразно изгнанного. Ни на шаг не отставая, они прошли за владыкой и сели за его стол. Их было много, больше, чем мест за столом, а поэтому некоторые встали за спинами сидящих, как на фотографии. С моего места мне было видно плохо, наверное, это мне показалось, но я увидела бледное лицо, тревожный взгляд и руку, плывущую просительным жестом - к губам. "Митя..." оно шевельнулось болью, но чужие спины, вставшие между нами, закрыли его лицо. Владыка выпил вина и отставил бокал. "Кушайте, кушайте, угощайтесь", - ровным голосом он привечал комсомольцев. Пустоглазые сидели над просфорками, не касаясь надкушенного. Всматриваясь острыми глазами, я силилась понять, видят ли они вошедших комсомольцев. Я-то - видела.
"Вы ведь сегодня впервые здесь?" - не ко мне, к ним: владыка обращался к вновь пришедшим. Теперь я поняла - придворные не видят. Тишина, повисшая над столом, не нарушалась ничьим ответом. Бессловесные комсомольцы кивали головами. "А раньше, прежде, вы бывали на пасхальной службе?" - владыка продолжал спрашивать. Новыми, собранными, разглядевшими его тайну глазами, я видела, как матушки, от каждой из которых - приняв постриг - он отказался, испуганно смотрят на меня. Их мужья сидели неподвижно, как обвисшие тяжелые облачения, среди которых, испугавшись раз и навсегда, он просыпается снова и снова... Совершенно так же, как однажды наяву, владыка поднялся из-за стола и, оглядев застолье, направился к выходу. Широкие рукава рясы взметнулись черными крыльями. Сделав несколько шагов, но не коснувшись двери, он обернулся ко мне. У самых дверей он стоял, не приближаясь, но лицо, посрамляющее земные законы, становилось четче и яснее. Сжатые, почти прикушенные губы плыли пред моими глазами, и, медленно поднявшись с места, я сделала шаг... Короткая боль пронзила ногу, и в ту же секунду я очнулась.
Я сидела в кресле, неловко поджав под себя затекшую ступню. Пленка остановилась. Совершенно ясно я вспомнила увиденное, и жгучее чувство вины опалило мое сердце. Словно поймав себя за руку, я поняла, что замыслила: ради себя я хотела вернуть его миру - уличить в грехе. Теперь, замирая, я осознала, что натворила. Раз за разом перематывая пленку, я проникла в его тайну, и в моих глазах, сумевших разглядеть невидимое, он, глотавший частицы, стал воплощением греха. Его грех входил в трапезную, как входили потомки убийц, чьими частицами он был исполнен. Какой-то долей своего изменившегося тела он стал частью их множества, а значит, спасая их, спасал и себя. "А если?...Господи..." - только теперь я поняла окончательно: если спасение не удастся - он сам становится обреченным.
"Какие глупости! - решительно возвращаясь к яви, я щелкнула клавишей и пихнула кассету в ящик стола. - Когда он выбирал - уже не то время. Отец ни при чем. Если бы он захотел карьеры, он сделал бы ее где угодно - и здесь, и там, надо же, напридумала глупостей..." - я бормотала про себя. Наяву, глядя на мир прежними глазами, я вернулась к детской истории с просфоркой, словно надеялась, начав от нее, как от печки, зайти с другого конца. Я думала об изъеденных просфорах, но видела мальчика, заснувшего в ризнице, и, словно тайное присутствие не прошло бесследно, с какой-то особенной яростью вспоминала обвисшие облачения, похожие на пустоглазых гостей. Он, посвятивший себя церкви, но видевший собственные сны, был одним из них, но в то же время стоял, повернувшись к миру - особняком.
Я смотрела на пустые облачения и думала о том, что мир, построенный церковью, целен и совершенен, но именно в этой целостности и совершенстве он эфемерен. Его строители не видят главного разделения - на убитых и убийц, не слышат его под сердцем, а значит, этот народ им никогда не спасти. В их мире, не видящем жизни, можно полагаться только на смерть, умеющую соединять несоединимое. Я вспомнила шею мужа, изгоняющего комсомольца, храмовых старух, берущих на себя роль всепрощающих мертвых, и поняла, что сейчас я сумею - до конца. "Если так, - я начала медленно, словно, проведя расследование, готовилась вынести вердикт, - если они не видят живого мира, значит, они и сами - мертвые, и все их усилия должны быть направлены на то, чтобы умертвить". Это - как в сказке: мертвые, они приходят к живым из темного невидимого царства. Замирая от ужаса, я думала: владыка, сказочный герой, стоящий на самой грани, на краю последнего - видимого - леса.
Слова бежали, исчезали, становились другими. Перед моим ошеломленным сердцем мир разрывался с шумом, как будто молния, ударившая в огромное дерево, разорвала его надвое, на два ствола - растущих из одного корня. Корни болели, словно были моими ногами, ушибленными одним ударом. Мир, разорванный на живых и мертвых, пугал меня, приводил в ужас, разрывал губы. Закушенными в кровь я бормотала несвязные слова о призраке мертвого дома, который, раз увиденный, никуда не девается, остается, уходит на глубину. "Мы - одного поля ягоды..." я вспомнила свои слова. Я села в глубокое кресло и закрыла руками рот. Невинные детские истории, умиленно рассказанные мужем, обретали новый смысл. Теперь, когда я доказала разъединенность - доказала строже, чем теорему, нетерпеливым сердцем я захотела большего. С болью я подумала о владыке: "Господи, вот она - его игра, "Зарница", разведка - на переднем крае". Глупые слова, недостойные, которых вообще нет и не могло быть, лезли мне на ум. Они бежали и исчезали, других у меня не было, но эти, силившиеся соединить несоединимое, все-таки были больше, чем другие - те, которые ничего не смели соединять. "В нем - моя надежда", - незаметно для себя я приходила к тому, к чему, задолго до меня, пришел мой муж: в своих надеждах он полагался на владыку. Теперь, в свой черед, я думала о владыке как о замковом камне, способном держать конструкцию. Одной частью своего проглотившего тела он был с убийцами, другой - с убитыми. А значит, соединяя в себе и тех и других, он мог и должен был стать первосвященником.