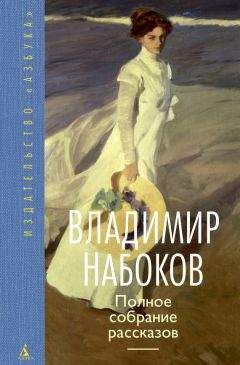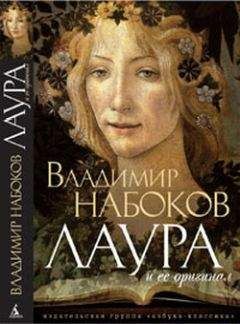его самообладание впервые дало течь, и он медленно развернул большой платок и с кряком высморкался, так что густо подведенный, алмазно-яркий глаз Ермакова закосил, как у пугливого коня.
Платок проследовал обратно в недра сюртука, и лишь несколько мгновений спустя сидевшим в первом ряду стало видно, что из-под очков у него текут слезы. Он не пытался отереть их, хотя раз или два его рука с растопыренными пальцами поднималась-было к очкам, но тут же опускалась обратно, точно он боялся таким жестом (что и было жемчужиной всего изощренного спектакля) привлечь к своим слезам внимание. Громовые рукоплескания по окончании чтения были, несомненно, скорее данью старику за его игру, чем Ермакову за декламацию поэмы. Затем, едва аплодисменты стихли, он встал и подошел к краю сцены.
Члены комитета не пытались остановить его, и тому имелись две причины. Во-первых, председатель, возмущенный до крайности вызывающим поведением старика, удалился на минуту, чтобы сделать кое-какие рапоряжения. Во-вторых, странные сомнения начали тревожить и некоторых организаторов; так что когда старец облокотился о пюпитр, в зале воцарилась полнейшая тишина.
— И это слава, — сказал он таким глухим голосом, что из задних рядов раздались крики: «Громче, громче!»
— Я говорю, и это-то слава! — повторил он, сумрачно оглядывая публику поверх очков. — Десятка два ветреных стишков, жонглированье трескучими словесами, и имя твое поминают, точно ты и впрямь принес человечеству какую-то пользу! Нет, господа, не надо себя обманывать. Империя наша и трон Государя-батюшки стоят как стояли в своей непоколебимой мощи, аки гром оцепенелый, а сбившийся с пути юноша, кропавший бунтарские стишки тому назад полвека, — ныне законопослушный старец, пользующийся уважением честных сограждан. Старец, прибавлю, который нуждается в вашем вспомоществовании. Я жертва стихий: земля, которую я возделывал в поте лица своего, агнцы, коих я своими руками вскормил, пшеница, махавшая мне златыми дланями…
И только тут двое дюжих городовых быстро и безболезненно выдворили старика. В публике успели только заметить, что, когда его тащили, его манишка торчала в одну сторону, борода в другую, одна манжета болталась на запястье, но в глазах его сохранялась всё та же степенность и то же достоинство.
В репортаже о чествовании главные газеты лишь мельком упоминали о «достойном сожаления инциденте», омрачившем его. Но бульварная «Петербургская газета» — лубочный, черносотенный листок, издававшийся братьями Херстовыми[99] для мещанских низов и для полуграмотной, блаженной в своем неведении прослойки рабочего люда, разразился вереницей статей, утверждавших, что «достойный сожаления инцидент» был ничто иное как возвращение из небытия настоящего Перова.
4
Между тем старика подобрал купец Громов, очень богатый самодур и чудак, дом которого был полон бродячих монахов, шарлатанов-лекарей и «погромистиков». «Газета» напечатала несколько интервью с самозванцем. В них он бранил на чем свет стоит «лакеев революционной партии», обманом лишивших его собственного имени и присвоивших его деньги. Он намеревался взыскать законным порядком эти деньги с издателей полного собрания сочинений Перова. Один вечно пьяный литературовед, приживальщик Громова, указал на (к сожалению, довольно разительное) сходство между наружностью старика и портретом.
Появилась обстоятельная, но весьма малоправдоподобная версия самоубийства, инсценированного им для того, чтобы жить по-христиански на лоне Святой Руси. Кем он только не был — разносчиком, птицеловом, паромщиком на Волге, пока наконец не обзавелся небольшим наделом земли в отдаленной губернии. Мне попался экземпляр довольно мерзкой на вид книжонки, «Смерть и воскресение Константина Перова», которой торговали на улице дрожащие от холода нищие, вместе с «Похождениями Маркиза де Сада» и «Мемуарами амазонки».
Однако лучшей моей находкой, добытой среди старых бумаг, была захватанная фотография бородатого самозванца на мраморе неоконченного памятника Перову, в обезлиствевшем парке. Он на ней стоит очень прямо, скрестив на груди руки, в круглой меховой шапке и новых галошах, но без пальто; у его ног сгрудилось несколько сочувствующих, и их маленькие белые лица смотрят в объектив с тем особым, опупелым, самодовольным выражением, какое бывает у самосудной толпы американских погромщиков на старых фотографиях.
В этой атмосфере цветущего хулиганства и черносотенной пошлости (столь тесно связанной в России с идеей правления, независимо от того, прозывается ли самодержец Николаем, Александром, или Иосифом) интеллигенции трудно было примириться с катастрофическим совмещением образа чистого, пылкого, революционно-настроенного Перова, каким он предстает в своей поэзии, с вульгарным стариком в грубо размалеванном хлеву. Трагично было то, что, в то время как ни Громов, ни братья Херстовы сами вовсе не верили, что человек, служивший им источником забавы, и в самом деле был Перов, многие честные и культурные люди не могли отвязаться от невыносимой мысли, что они отвергли Правду и Справедливость.
Как сказано в недавно опубликованном письме Славского к Короленке, «дрожь берет при мысли, что безпримерный в истории дар судьбы — воскрешение большого поэта прошлого, как некоего Лазаря, — может быть неблагодарно отринут — мало того, сочтен за злостный обман со стороны человека, вся вина которого заключается в том, что он полстолетия молчал, а потом несколько минут нес околесицу». Слог витиеват, но смысл ясен: российская интеллигенция не столько боялась оказаться жертвой обмана, сколько взять на себя ответственность за ужасную ошибку. Но было тут и другое, чего она боялась еще больше: разрушения идеала, ибо радикал готов смести все на свете, но только не банального болванчика (каким бы сомнительным и пыльным он ни был), которого радикализм почему-нибудь поставил на пьедестал для поклонения.
Передавали, что на тайном заседании Общества ревнителей русской словесности многочисленные бранные письма, безпрерывно посылавшиеся стариком, тщательно сличались экспертами с одним очень старым письмом, которое поэт написал в юности. Оно было обнаружено в некоем частном архиве, считалось единственным образцом руки Перова, и никто кроме ученых, изследовавших выцветшие чернила этого письма, не ведал о его существовании — как, впрочем, и мы не ведаем теперь, к какому же они пришли заключению.
Ходили, кроме того, слухи, что была собрана некоторая сумма, которую предложили старику в тайне от его непрезентабельных приверженцев. По-видимому, ему предложили выплачивать солидную помесячную пенсию, с условием, что он тотчас вернется на свою мызу и будет жить там в приличествующем ему молчании и забвении. По-видимому, предложение это было принято, так как исчез он столь же внезапно, что и объявился, а Громов между тем возместил потерю своей забавы, поселив у себя подозрительного гипнотизера французского происхождения, который года через два стал пользоваться некоторым успехом при дворе.
Памятник был своим чередом открыт и приобрел большую популярность у местных голубей. Спрос на собрание сочинений, как и следовало ожидать, сошел на нет посредине четвертого издания. Наконец, спустя несколько лет, старейший, хотя, возможно, и не самый умственно-одаренный житель уезда, где Перов родился, разсказал сотруднице одного журнала, что припоминает, как отец говорил ему, что нашел скелет в камышевых зарослях местной речки.
5
На этом можно было бы и кончить, кабы не пришла революция, вывернувшая пласты тучной земли вместе с белесыми корешками разнотравья и жирными лиловыми червями, которые в других обстоятельствах остались бы погребенными. Когда в начале двадцатых годов в мрачном, голодном, но болезненно-деятельном городе размножились разные диковинные культурные учреждения (например, книжные лавки, где знаменитые, но обнищавшие писатели продавали собственные книги, и проч.), кто-то обеспечил себе двухмесячное пропитанье, устроив Перовский музейчик, и эта затея привела к еще одному воскрешению.
А экспонаты? Все налицо, кроме одного (письма). Подержанное прошлое в убогом помещении. Миндалевидные глаза и каштановые локоны на драгоценном Шереметевском портрете (с трещиной в области открытого ворота, как бы от неудавшегося обезглавливанья); потрепанный томик «Грузинских ночей», будто бы принадлежавший Некрасову; плохо вышедшая фотография сельской школы, построенной на том месте, где некогда стояли дом и сад в имении отца поэта. Старая перчатка, забытая каким-то посетителем музея. Несколько изданий сочинений Перова, разложенных так, чтобы занять собою как можно больше места.
И так как все эти жалкие реликвии отказывались составить одну счастливую семью, пришлось добавить несколько предметов эпохи, например халат, который известный радикальный критик носил в своем вычурном кабинете, и кандалы, которые он же носил в сибирском своем остроге. Но так как ни эти убогие вещи, ни портреты разных литераторов того времени все-таки не были достаточно объемисты, то посреди унылой этой комнаты установили модель первого железнодорожного поезда, пущенного в России (в сороковых годах, между Петербургом и Царским Селом).