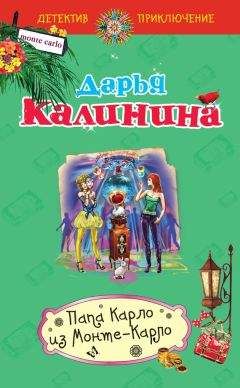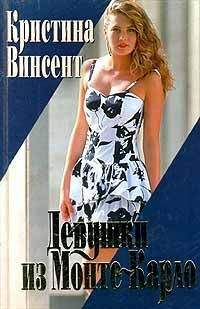Через минуту, сдержав рыдания, он тихо, не поднимая головы, прерывающимся голосом рассказал ей историю последних месяцев.
Она слушала его, не прерывая ни словом, ни движением, с устремленными в одну точку глазами.
Он кончил, она все молчала.
Это молчание, это равнодушие к его мольбам приводило его в отчаяние!..
Но смел ли он надеяться на скорое прощение, имел ли на него какое-либо право?
Нет, он слишком оскорбил эту любящую душу, и если возвратить когда-нибудь ее доверие, то это не будет скоро.
Он медленно поднялся с колен и так же медленно отошел от кровати.
При входе в кабинет, взгляд его упал на портрет Тамары, брошенный им на письменный стол.
Ему снова стало жаль это красивое существо, со спокойным лицом смотревшее на него с портрета.
— Что будет с ней теперь? Как помочь и успокоить ее? Это была его обязанность, его долг! На кого же могла надеяться эта несчастная женщина, как не на него. Если не из любви, то из сострадания должен был он позаботиться о ней.
Такие мысли обрывочно, бессистемно роились в его голове, слишком уставшей для правильного мышления. Казалось, она была налита свинцом и становилась все тяжелее.
Он прилег на кушетку и впал скорее в обморочное состояние, нежели сон.
Было уже двенадцать часов следующего дня, когда его разбудил Столетов.
— Что! Что случилось? — быстро спросил он, поднимаясь и сразу заметив его встревоженное лицо.
— Я от Гоголицыных, Осип Федорович, — отвечал он. — Любовь Сергеевна захворала, за мной прислали в десять часов. Поднимаясь к ним, я встретил баронессу фон Армфельдт, которую с трудом узнал под густым вуалем. Не знаю, что она там делала так рано, только я застал Любовь Сергеевну в сильной истерике, после которой она впала в каталептическое состояние. Мне ничего не хотели сказать кроме того, что у больной было сильное душевное потрясение. От них я заехал к баронессе, но меня не приняли, и я приехал к вам попросить объяснения этой загадки. Мне ужасно жаль бедную девочку, и я не могу не желать узнать настоящую причину ее болезни, как вы хорошо понимаете сами, что необходимо для правильного лечения. Вы, вероятно, знаете ее, мой друг?
"Тамара была там и открыла глаза Любе!" — быстро промелькнуло в голове Пашкова.
— Я ничего не могу сказать вам, Василий Яковлевич! — уклончиво ответил он.
Столетов взглянул на Осипа Федоровича и молчал.
— Вы были у моей жены? — спросил Пашков.
— Был. Ей гораздо лучше.
Осип Федорович с облегчением вздохнул и вместе с ним пошел в ее комнату.
Вера Степановна лежала на постели, устремив глаза на дверь. При виде мужа легкая краска выступила на ее лице, и после едва заметного колебания она протянула ему руку.
Он схватил ее и, покрыв горячими поцелуями, взглянул на жену. В ее синих глазах он прочел прощение себе. Столетов, улыбаясь, смотрел на них и вскоре увел его, запретив всякое волнение больной.
Вечером, собираясь пойти к баронессе, чтобы узнать о состоянии ее здоровья, он перед уходом зашел к жене спросить ее, не будет ли она иметь что-нибудь против этого.
— Мне жаль ее! Ступай и помоги ей, если можешь!..
Вот что ответила ему эта чудная женщина.
Осипу Федоровичу не пришлось увидать еще раз Тамару живой.
Как раз перед уходом из дому, ему подали извещение о смерти баронессы, последовавшей мгновенно от принятого в большой дозе сильного яда.
Прочтя эти несколько строк, написанные равнодушной рукой камеристки, он содрогнулся и закрыл лицо руками.
Впечатление, произведенное на него ее смертью, поразило его. Кроме жалости, смешанной с каким-то ужасом, он ничего не почувствовал.
На другой день, вечером, он стоял у ее гроба.
Она лежала, вся засыпанная цветами, с покойным, строгим выражением сжатых губ.
Все следы страшного, пережитого ею горя исчезли. Она была снова чудесно прекрасна, со своим бледным мраморным лицом и длинными опущенными ресницами.
Он с жадностью всматривался в ее застывшие черты, отыскивал в своем сердце прежнюю нежность к ней… и не находил ее.
Его любовь к этой женщине не пережила перенесенных им от нее страданий — так сперва подумал он.
Простояв несколько минут у гроба, он поклонился ее праху, поцеловал холодную белую руку покойной и отошел.
Комната была переполнена ее поклонниками; некоторые украдкой утирали слезы, многие лица выражали глубокую печаль, а в гостиной бился в страшном истерическом припадке какой-то юноша.
Эта красавица, возбуждающая столько сожалений и горя, покончила с собой, будучи не в силах переносить жизнь, путь которой казался усыпанным розами, для нее же ставший тяжелым бременем.
Пробыв еще немного в толпе, окружавшей гроб, Пашков направился к выходу.
У дверей его остановила камеристка покойной и поспешно сунула ему в руку конверт.
— Барыня за несколько часов перед смертью велела передать это вам! — шепнула она и скрылась.
Он моментально спрятал письмо в карман.
Приехав домой, он распечатал его. Запах ландышей в последний раз живо напомнил все им пережитое и перечувствованное.
Он прочел следующее:
"Друг мой!
Вы доказали мне свое доброе сердце, не оттолкнув меня в самую ужасную минуту моей жизни, и потому только я решаюсь обратиться к вам с последней просьбой. Через час меня не будет на свете, но я умру спокойно, уверенная, что вы ее исполните. У меня есть дочь, которую я обожала и не смела видеть чаще одного раза в год. Не спрашивайте имени ее отца! Я не хочу и не могу сказать вам его. После моей смерти она останется сиротою, так как он отказался от нее при ее появлении на свет, взяв с меня клятву, никогда не называть этого ребенка его дочерью. Я умру, и моя бедная девочка останется одна на свете. Возьмите ее к себе, замените ей отца, сделайте это ради вашей прежней любви ко мне! Передайте вашей жене это предсмертное желание несчастной матери, она сама мать, она поймет меня.
Прощайте и простите. Т. А.".
Затем следовал подробный адрес местопребывания ребенка.
Осип Федорович спрятал письмо в ящик письменного стола. Говорить об этом с больной женой в настоящее время было неудобно.
События последних дней и так расстроили ее. Беспокойство еще усилилось в силу осложнившейся болезни ребенка — у него сделалось воспаление мозга.
Осип Федорович не пропустил ни одной панихиды и делал это по настоянию своей жены, которая сама напоминала ему о них.
На панихидах присутствовал и князь Чичивадзе, но, видимо, избегал Пашкова.
Он стоял бледный, как мертвец, с устремленными в одну точку глазами и неподвижным мраморным лицом и ни разу — Осип Федорович украдкой наблюдал за ним — не перекрестился.
Они оба присутствовали и на похоронах баронессы фон Армфельдт.
Похороны были пышны и многолюдны. Петербургский свет, падкий до всякого рода скандала, нашел в романтическом самоубийстве Тамары Викентьевны обильную пищу для продолжительных толков и пересудов.
"Весь Петербург", как принято выражаться об этом "свете", перебывал на панихидах у гроба в конце своей жизни сильно скомпрометированной светской львицы и в полном составе явился на похороны.
Присутствие на них доктора Пашкова, о связи с покойной которого говорили во всех гостиных, и князя Чичивадзе, находившегося относительно связи с баронессой лишь в подозрении, но известного своим сватовством за Любовь Сергеевну Гоголицыну, сватовством, разрушенным Тамарой Викентьевной в день самоубийства, придавало этим похоронам еще более притягательной силы для скучающих в конце сезона петербуржцев.
Масса карет, колясок, английских шарабанов проводили печальную процессию в Новодевичий монастырь, где, после отпевания в монастырской церкви, баронесса Тамара Викентьевна фон Армфельдт нашла себе вечное успокоение от своей полной треволнений жизни.
Осип Федорович вернулся к себе домой и, лишь оставшись наедине с самим собою в своем кабинете, стал переживать более сознательно впечатления последних дней.
Он искал в себе чувство жалости к опущенной несколько часов тому назад в могилу еще недавно так безумно любимой им женщины и не находил в себе этого чувства.
Он припомнил первую панихиду в квартире покойной и то, что его поразил возглас священника:
"Упокой душу рабы твоея новопреставленной Татьяны".
"Татьяны?.." — повторил он тогда и мысленно задал себе вопрос: "Кто же умер?"
Он стоял невдалеке от гроба, и невольно его взор устремился на лежавшую в ней покойницу.
В гробу лежала "его Тамара".
Только необычайным усилием мысли он понял, что "Тамара" было ее светское имя, и что покойницу звали Татьяной.
"Действительно, — далее как-то странно заработала его мысль. — Тамара не могла умереть, или, лучше сказать, мертвая она не могла быть Тамарой… Весьма естественно, что в гробу она Татьяна, совершенно не та, какою она была при жизни… Потому-то он так безучасно и смотрит на труп этой Татьяны… Он совсем не знал ее… Тамара, эта чудная женщина, вся сотканная из неги и страсти, с телом, распространявшим одуряющие благоухания, с метавшими искры зелеными глазами — исчезла… Ее нет… Этот холодный труп красивой Татьяны не имеет с той Тамарой ничего общего… Это даже не труп Тамары… Тамара была, значит, созданием его страсти, фантазии сладострастия… Галлюцинация, такая реальная, так похожая на жизнь, на любовь, прошла… Зачем же он стоит у гроба этой посторонней для него женщины… Зачем молится он об упоении души рабы Божией Татьяны… Разве у Тамары была душа… У нее было одно тело… Этого тела нет — нет и Тамары.