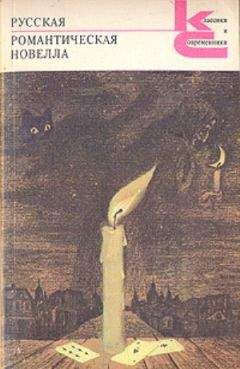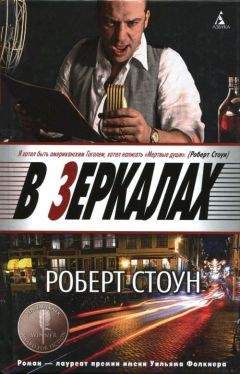Я нашел ее в слезах. — Она обратила разговор на бессмертие души. «Убедите меня, что душа бессмертна. От вас именно хочу я получить доказательство». — «Помните, мы говорили недавно о счастии. — Сии избранники, сии гении в минуты величайших своих откровений ощущали еще какую-то пустоту в своем сердце, которое уж ничем наполнить не могли. Они все еще желали, и это видно из их сочинений. — Это желание — что ж оно значит? тоску по отчизне. А этот последний вопрос, на который молчат и Шеллинги, знающие, как все происходит: откуда все и куда все? — Где же удовлетворение нашему сердцу и нашему уму?» — «Благодарю вас, — она прервала, — да стоит ли труда из двух-трех минут жить на этом свете без надежды на будущий?» — крепко пожала мне руку… право, я не ошибся, очень крепко, и ушла в другую комнату.
Друг мой! душа бессмертна. Там, там, на высоком небе, обниму я тебя торжественно. Там, забыв ничтожный мир с его презренными рабами, свергнув с себя иго грубой, тяжелой плоти, вразумимся мы в себя, сольемся чистыми душами своими, и ангелы позавидуют нашему счастию.
Я объяснюсь ей в любви. Как мне этого хочется! — Но все не смею. Решительный у себя, я робею перед нею и как будто не влюблен, а только что люблю ее. Но могу ли я выразить свое чувство! На каком человеческом языке достанет слов для него? — Я его унижу. — Словами назначатся ему какие-то пределы; оно подведется под какую-то точку известную, объятную, — оно, бесконечное, беспредельное. — Нет, я не поверю его нашим словам. Ах, дайте, дайте мне другую, не земную азбуку. — Если б она узнала меня совершенно, совершенно!
Но не обманывает ли меня самолюбие! Может быть, случайные слова я растолковал в свою пользу; может быть, она питает ко мне только уважение и мое объяснение назовет сумасшествием? «Как вы смеете?» — скажет она… Клевета, клевета! Во всяком случае она почтет это для себя несчастием, пожалеет обо мне искренно. — Что тут безумного? Так может рассуждать какой-нибудь ослепленный невежа, а не она. — Ну что ж! я буду терпеть.
Терпеть! Грубый человек. Пусть она не любит меня. — Я хочу этого. И вот будет самая чистая, совершенная любовь с моей стороны. — Сердце хочет любить. На что ж еще ответ ему? Что за меновая торговля? как будто оно может перестать? — Разве мало ему наслаждения — любить?
Вчера, после ужина вместе с гостями ходили мы в сад слушать соловья. Приятная минута! — Все было тихо; мы, впереди других, приближались к нему па цыпочках в темной аллее. Вот звуки! сладостно было дожидаться их, не смея перевести дыхание. — Вдруг раздадутся на всю рощу и вдруг опять благоговейное безмолвие. — Как мне хотелось поцеловать мою Адель!
На каждом шагу природа представляет удовольствия человеку, и как мало он пользуется ими, ожесточенный! — Ночь, синий свод, осыпанный сверкающими алмазами, полный светлый месяц, дробящийся между древесными ветвями, воздух благоухает, дорога покрыта тенью, тишина в природе, а душа всего — Адель.
Я поеду путешествовать с нею. Всем прекрасным мы насладимся. Всему великому мы поклонимся. Гробница Шиллера и Гердера, лекция Шеллинга, Мадонна Рафаелева, маститый старец — немецкая литература, французские палаты, спектакли, улица Победы, Лондонская гавань, мирное жилище Вальтер Скотта, чугунные дороги, Ланкастерские школы, восхождение солнца на Альпийских горах, вечерняя прогулка по Женевскому озеру, Венера Медицисская, вечный Рим, Этна, лавр Виргилиев, «Тайная вечеря» Леонарда Винчи, развалины Помпеи, храм святого Петра — сколько, сколько сладостных ощущений! — Мы перечувствуем всю историю, мы переживем всю жизнь; мы увидим все, чего достигнул человеческий гений в победоносной борьбе с нуждою, по всем путям, по которым он должен был стремиться к своей далекой цели. Религия, жизнь семейственная, жизнь гражданская, царство промышленности, царство изящного представятся удивленным взорам нашим по разным странам и климатам во всех возможных видоизменениях. А места благородных усилий, освященные кровавым потом, горючими слезами великих мыслителей: эта ива Шекспирова, этот чердак Руссо или темницы Лутера, Галилея, Данта! — А эти бесчисленные ступени образования, на коих горит еще глубоко протертый след труда человеческого, — и наконец та, с которой старший сын Адамов смотрит теперь на небесную свою отчизну…
Но разве мы ограничимся одною Европою! Благодаря успехам гражданственности расстояния сократились: в четырнадцать дней уж можно поспеть из Ливерпуля в Америку, чрез месяц в Ост-Индию, а из Одессы в неделю в Константинополь, Египет, Иерусалим; ныне стыдно уж образованному человеку умереть, не видав чудес, являющих на земле задняя (так в книге) славы божией. Так, мы увидим водопад Ниагарский, дремучие леса, многоводные реки, и недосягаемые горы юной природы американской, и степенный Египет с его гиероглифическими пирамидами и благодетельным Нилом, старшим возбудителем человеческой деятельности, и поэтическую Индию с ее древними, уже беспамятными развалинами и седовласыми браминами, которые в безмолвии, почти не принимая пищи, по целым годам погружаются в таинственные созерцания, — и памятник славного македонца, что первый указал сынам Иафета их преимущество пред прочими братьями, Александрию — и Аравийские пустыни, наполненные фантастическим духом магометанской религии, — и естественную столицу мира, по верному выбору Наполеона, седмихолмный Константинополь, средоточие Европы, Азии и Африки; — и остров, куда, за моря и земли, испуганная Европа сослала этого своенравного сына, где денно и нощно, едва переводя дыхание, стерегла всякое неумышленное его движение, где он, десятилетний рок мира, под плесканье пустынной волны размышлял о народах и царствах; где он, пловец испытанный, вспоминал прежние бури и в изумлении оглядывался на свою неожиданную пристань, не веря собственным глазам своим. Там, на могиле этого исполина, упавшего в пропасть, которой глубину можно сравнивать только с высотою его прежнего величия, мы скажем всего убедительнее с Соломоном: суета сует и всяческая суета!
……………………………………………………………..
И наконец Вифлеем и Голгофа, святая святых, небо земли!
Куда увлекла меня послушная мечта! — Но что ж тут мечтательного? Разве это невозможно, разве это трудно?
Я говорил с Аделью о путешествии. Она слушала с восхищением. «Поедем вместе», — сказал я. «Я рада, — ах, если б в этом слове была сила!» Что же это значит? Точно — она меня любит.
А потом, потом с богатым запасом впечатлений мы поселимся в деревне, на берегу Волги. — Признаться ли, мысль о сельской жизни даже приятнее путешествия моему воображению, и ни об чем еще не мечтал я так сладостно! Вдали от сует, недостойных человека, без тщетных замыслов и желаний, свободные от мелких условий и отношений, не смущаемые страстями, будем мы жить мирно и спокойно в нашем заповедном уединении, наслаждаться любовию и с благоговением созерцать истинное, благое и прекрасное в природе, науке и искусстве, Я буду набожно вопрошать всемирных оракулов, вникать в их многозначущие завещания и, может быть, — мечта сладостная — творческие думы созреют, по выражению поэта, в душевной глубине, и я сам, по священному следу, успею стереть какое-нибудь пятно на скрижалях ума человеческого или напечатлеть новую истину, в поучение современников и потомства.
Я воображаю: поутру, прогулявшись по рощам и долинам, освежась чистым воздухом, принимаюсь я за работу в своем кабинете, пишу, читаю целые часы без всякой помехи — с напряженным вниманием, сосредоточенным на один любимый предмет, погружаясь глубже и глубже в сладостные размышления…
Перед обедом ко мне приходит Адель с Эмилем на руках и рассказывает об его первой улыбке или обнаружении новой способности. Расцеловав их обоих, я показываю ей драгоценности, собранные на дне искания… Опять гуляем. После простого вкусного обеда, приготовленного ее руками, отдохнув, мы воспоминаем о нашем путешествии; или учимся языкам; или говорим о жизни Александров, Фридрихов, Петров, о тех препятствиях, чрез которые прорывались они торжественно, об их отважных замыслах и странных удачах; или читаем Руссо, Карамзина, Байрона, Окена, Клопштока… какие собеседники вместо дюжинных посетителей, призраков столицы! — Как живо будем мы чувствовать в нашей легкой Альпийской атмосфере красоту всякого выражения, глубину всякой мысли! Устами великих учителей я посвящу мою Адель в таинство науки; с верою и любовию мы будем вместе изучать природу от Пифагоровой монады до чудного, совершеннейшего творения — человека, наблюдая все ее удивительные аналогии; — потом я поведу ее в другой великий мир, мир истории, и расскажу ей жизнь человеческого рода по предвечным законам от первого пробуждения умственных способностей в существе географическом до полета Шлёцера, Наполеона, Шеллинга… до идеала, дарованного богочеловеком. Мы обозрим эту Иаковлеву лестницу и с благоговением преклоним колена пред мудрым промыслом, о нем же всяческая существует.