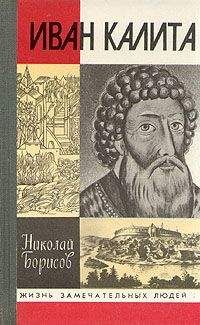Боже, думаешь… И этого человечка я ненавидел, и боялся, и зависел от него? И времени-то прошло почти ничего — лет семь… И ухожу. А он стоит, седенький, пузатенький. Жена толстая. И вокруг белоголовые детки ползают. А ведь зверь был! Уж как его не любили. Чуть в тюрьму меня не загнал… Что ж поделать, человечек, не трону я тебя, рад я тебе — память все-таки, мое прошлое — не твое…
Что говорить, новых знакомых уже и сосчитывать трудно, и словно не замечаешь их. Словно бы познакомился — то это еще и не познакомился. На следующий день и не заметишь и не вспомнишь, и тебя не заметят, не вспомнят. Мало ли кто кому руку за день подает…
Знакомых много, а друзья… где они?
КТО БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ?
…В течение двух минут три угловых удара! Темп игры пределен. На скользком от дождя поле все время надо быть начеку. В игру вступает вратарь «Буревестника» Генрих Ш. Великолепно взяв верхний мяч, он спасает команду от, казалось бы, неминуемого гола. В игре обозначается перелом. И вот уже атакует «Буревестник». Гол! Еще гол! Теперь ясно, кто чемпион города по футболу…
Господи, кто чемпион? Конечно же мой друг Генрих. Кто же еще.
Как он теперь выглядит?
…Белой июньской ночью по гранитной набережной Невы шел человек. Хотя он, несомненно, о чем-то глубоко задумался, шаги его были легкими, уверенными, выдавали хорошо тренированного спортсмена. Если бы автор в предыдущих главах, пытаясь передать стремительный ход событий, не опустил важное описание портретов, читатель сейчас по высокой, худощавой, но крепко сбитой фигуре, по узкому тонкому лицу с острым углом подбородка и по большим, немного подернутым влагой глазам без труда узнал бы Генриха…
«В пасти белого дьявола», газетный очерк
Узнаю ли я тебя без труда? По глазам, подернутым влагой? Когда я видел тебя в последний раз?
Сидел я у себя за городом в тихих трудах и домашних заботах — и вдруг телеграмма. А я ведь скрылся от всех — никто не знает, что я тут. Семейство мое всполошилось: что там? Не случилось ли чего? ПЯТНИЦУ ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ БУДУ ЖДАТЬ ФИНЛЯНДСКОМ ВОКЗАЛЕ ГЕНРИХ. Какой Генрих? Почему на вокзале? Зачем в пятницу?..
Как я был Генрихом
Я, конечно, прибыл. Озираюсь. Вдруг меня хватают и тащат. Генрих! Боже мой… Но мне не дают ни повосклицать, ни поохать. Меня впихивают в такси, которое уже ждет. Шофер резко берет с места — он уже знает куда. «Нельзя терять ни минуты», — говорит Генрих. Во мне просыпается детское чувство таинственности и опасности, и я подчиняюсь.
Из суровых недомолвок и отдельно оброненных мужественных и скупых слов я приблизительно понимаю, что к чему. Мы едем сдавать кандидатский экзамен по языку. То есть это я еду сдавать экзамен, но я буду не я, а Генрих. Генрих же будет моим братом, конечно старшим. Он, как мой брат, обо всем договорился уже, мол, я, то есть Генрих, прилетаю всего на два дня, и поэтому мне надо скорее, так что я, как бы только с самолета, иду и сдаю экзамен, а он, мой старший брат, просто мне все это заранее подготовил, чтобы я не терял времени и все успел, потому что я хорошо знаю язык, он бы, Генрих, и сам бы сдал, но ему действительно завтра лететь назад на вулканы, и ему нужно без осечки, и я, то есть не я уже, а как бы Генрих, сделаю это легче простого, и тогда через месяц он сможет защитить диссертацию, потому что это единственное, что над ним висит, — экзамен по языку.
Так-то так. Приезжаем мы в институт. И тут обнаруживается сложная интрига, которую уже успел сплести Генрих. А именно, что одна женщина-доцент, с которой предварительно поговорили одни его хорошие знакомые, одновременно — ее хорошие знакомые, должна была подобрать экзаменатора подобрее, с которым, в свою очередь, поговорить («Так что ты не слишком там блещи, — сказал Генрих, — произноси похуже…»), а потом познакомить с ним Генриха, то есть меня.
Когда я узнал фамилию экзаменатора, то понял, что это мой школьный учитель, действительно добряк, и учил он меня в свое время тому самому языку, который я сейчас буду ему сдавать. К тому же у нас с ним еще в школе сложились особые, дружеские отношения, и мы до сих пор изредка встречаемся и подолгу болтаем, так что он может несколько удивиться, если я буду не я, а как бы Генрих, и тогда вся затея может даже рухнуть. О чем я сбивчиво и рассказываю Генриху. «Так что придется тебе самому сдавать», — говорю я. Генрих отнесся к этому совершенно спокойно, как и подобает человеку, постоянно рискующему своей жизнью. «Ну что ж, — сказал он, — только как я объясню все это ЕЙ (он имел ввиду доцентшу), она ведь нас ждет, чтобы представить меня, то есть тебя, экзаменатору». — «Придется открыться __ говорю я, — тут уж ничего не поделаешь». — «Да…» — соглашается Генрих и скрывается в ее кабинете. Через минуту он появляется с маленькой миловидной женщиной, и они вдвоем направляются ко мне. Этого я не ожидал. Она смотрит на меня широко распахнутыми, восторженными глазами: «Так это вы?!» — «Я…» — говорю я. Почему она так смотрит? Может, она меня читала и ей нравится, как я пишу? Я надуваюсь и краснею. Она проникновенно жмет мне руку. «Вот вы какой!» Хоть мне и лестно, начинаю чувствовать что-то не то. Пожимаю ей руку, называю себя по имени. Чувствую резкую боль в боку. Это Генрих. Не могу вздохнуть. Она внимательно смотрит на Генриха. «А вы непохожи…» говорит она. Тут я начинаю понимать: Генрих ничего ей не сказал и сейчас мы идем знакомиться с моим старым учителем. «Что же ты'» — дико шепчу я Генриху. «Вы не обращайте внимания, — говорит Генрих и не краснеет, — он только с самолета, одичал там несколько на вулканах…»- «Ну как там погода?» — говорит она и смотрит на меня так же пристально и восхищенно. А я-то, дурак, растекся — это же она на Генриха так смотрит, а не на меня, потому что я — Генрих, великий Генрих, железный Генрих, бесстрашно спускающийся в жерла вулканов, русский Таз-пев, Вулканавт-1. А я-то… «Ничего, — говорю, — погода». — «Какой-то он у вас странный…»- говорит она Генриху. «Он всегда такой», — не задумываясь, отвечает Генрих. И все мое идиотское поведение, к моему удивлению, кажется ей вполне естественным, все работает на образ и, наверно, действительно кажется некой романтической застенчивостью и диковатостью. Я немножко успокаиваюсь и думаю о природе женщин и о тщетности наших усилий нравиться им или нет, потому что мы или нравимся, или нет, и тут уж ничего не поделаешь, и всегда ошибемся, думая, что нравимся или не нравимся благодаря таким-то или таким-то своим достоинствам или недостаткам.
И так мы все ближе подходим к моему старому учителю, к нелепому нашему и полному крушению и разоблачению. Но, на счастье, он еще не пришел. Мы остаемся его ждать, а она уходит, бросив на меня последний восторженный взгляд. «Что же ты! — зло шепчу я Генриху. — Почему же ты ей не сказал?» «А не смог…» — спокойно говорит Генрих. «Ты все на свете можешь, а такого пустяка- признаться- не можешь?» — «Все-то я могу…» — говорит Генрих.
Появился мой учитель: как всегда, галстук на боку, машет толстенным портфелем и весь не то прыгает, не то летит. А за ним хвост студентов, хвостистов. Осаждают добряка — он, по-видимому, последний и верный шанс на пересдачу. Мы с ним всплескиваем, вскрикиваем, обнимаемся. Я представляю ему Генриха. Учитель устало отмахивается от наседающих, не перестающих ни на секунду что-то скучно и однотонно лепетать студентов; они суют ему какие-то бумажки; близорукие его глаза, кажущиеся махонькими под толстыми и слоистыми, как луковицы, стеклами, жалобно щурятся, и он говорит слабым голосом: «Не видите разве, что я разговариваю…» А я шепчу ему не по-русски, какой Генрих замечательный человек и талантливый ученый, какие у него небывалые обстоятельства (послезавтра в вулкан лезть), что ему надо непременно сегодня сдать, и я оказываюсь вдруг таким же, как десятки облепивших его и что-то канючащих студентов. Учитель слегка тускнеет, извиняется и обещает все сделать.
Студенты оттесняют его и вталкивают в кабинет. «Все в порядке, — говорю я, возвращаясь к Генриху, — сдашь». — «Технического-то я не боюсь, а вот политического текста боюсь, — говорит Генрих. — Я его тебе передам, и ты переведешь. А пока, — говорит Генрих, — нельзя терять ни минуты: у нас еще есть время, и ты меня подготовишь». Он достает из-за пазухи журнал «Нью тайме», и мы начинаем переводить. От его произношения даже меня корчит — о бедный мой учитель! «Ладно, — говорю я, — прочти хоть название журнала». «Нев тимес», — невозмутимо читает Генрих. Я начинаю понимать, зачем я был нужен.
Но Генрих пребывает в твердой уверенности, что за оставшиеся полчаса он всему научится и все сдаст. «А это слово как читается? А это что значит?» без конца спрашивает он. Мне страшно за него, ему — нет. Такой мысли, что он не сдаст, он не допускает. Я же не могу в это поверить, несмотря на фантастическую доброту моего учителя.
Но это еще не все. Мы видим, как по коридору к нам приближается та милая женщина, что меня, то есть Генриха, протежирует в этом темном деле. И прежде чем я успеваю остолбенеть, Генрих хватает меня и куда-то тащит. Но тут сразу тупик, и лишь налево закуток, и дверь заколочена. Две девушки, красивые, стоят и курят и нас снисходительно обмеривают. И все это в двух шагах от кабинета моего учителя. И мы слышим: «Да, я уже знаю, — говорит мой учитель. — Нет, в очках — это мой бывший ученик, он писатель, я его очень хорошо знаю, он мне рассказал про своего друга… Нет, нет, не брата, а друга. Ну да, вулканолога, он туда лазает… Да нет же, в очках- это ученик мой… У меня уже голова кружится… Ну да, я, наверно, путаю. Да, конечно же мой ученик без очков, а тот, вулканолог, — в очках. Так они братья скажите пожалуйста…» Мы слышим, как к нам приближается цокот ее каблучков, Генрих запихивает меня за дверь и запихивается следом сам. Мы, стало быть, великий вулканолог и писатель, взрослые люди, прячемся от маленькой женщины. Я-то уже давно чувствую себя снова в пионерлагере, и вот мы с Генрихом убегаем от «воспиталки». Она уверенно приближается к нам и заглядывает за дверь: «Вот вы где? Что же вы от меня прячетесь? Ну, все в порядке», говорит она. И снова смотрит на меня с восхищением: «Какой вы странный!» Странный, подумать только…