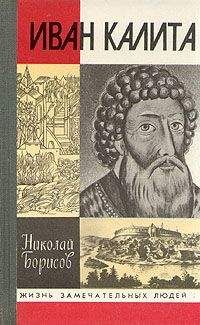И тогда вперед подался Генка. «Я ПОДЫМУ ТЫЩУ ОДИН РАЗ», — сказал он. Все поняли, что Генка оскандалился. С его сложением легкоатлета, тонкими, как спички, руками нечего было думать даже о побитии моего рекорда, не то что о ТЫЩЕ ОДНОМ РАЗЕ. Я скромно отступил в сторону, пораженный его наглостью, и стал тихо и радостно ждать его позора. Поднимал он с трудом, совсем без легкости, откидываясь всем корпусом, почти ложась назад, и руки его дрожали. К моему удивлению, первую сотню он как-то осилил. На сто первом разе его тощее тело стали бить судороги. Весь сотрясаясь, он поднял еще пятьдесят и один раз, и мой рекорд был повержен. На меня уже никто не смотрел. Все были свидетелями ПОДВИГА. Побив рекорд, под восторженный вой болельщиков воодушевленный Генка довел рекорд до двухсот, после чего с ним стало твориться что-то страшное. Дергаясь и дрожа под этим тоненьким ломом, который был теперь, наверно, равен рекордному весу Новака, он выпустил два больших слюнявых пузыря, но кто-то понял, что он сказал, и на него вылили ведро воды. Не к чему описывать все его мучения, это было бы, как говорят критики, «ненужным физиологизмом» — на него вылили не одно ведро, зрителям уже начало все это однообразие надоедать, и они стали расходиться понемногу, удивляясь и даже осуждая эту Генкину настырность: ведь рекорд был давно уже безнадежно побит, он валялся в пыли у моих ног, сморщившийся в четыре раза, девочка, которая мне нравилась, забыв обо мне и обо всем, некрасиво открыла рот и смотрела на героя, теперь каждый Генкин раз был рождением нового рекорда. В общем, он выжал всю ТЫЩУ ОДИН РАЗ и куда-то исчез. Вечером его нашли и принесли. Он отлежался.
Это было чудо — таким я его понимаю до сего дня. Для меня это первый из ДВЕНАДЦАТИ ПОДВИГОВ ГЕНРИХА, за которыми я слежу всю свою жизнь. Это было равносильно тому, чтобы, прыгнув в высоту всего на полтора метра, так разозлиться на человека, перешедшего двухметровый рубеж, что сказать сдуру: а я прыгну на двадцать! — и прыгнуть-таки. Это было невозможно, и это было чудо, первое чудо воли Генриха Ш., происшедшее на моих глазах. Оно как бы определило для меня в дальнейшем всю его жизнь, потому что Генрих взрослел и старел, а механизм его оставался всегда тем же, что и при поднятии лома: доказать другим, доказать себе, на что он способен. И даже тогда, когда он давным-давно уже доказал другим и конкурентов у него не было и быть не могло, он испытывал постоянную потребность доказывать уже только себе, уже почти абстрактно, так сказать, из любви к искусству. И начинает теперь мерещиться, что больше всех был он неуверен в себе и слаб, иначе зачем же доказывать свою силу столь непрерывно и бесконечно?
Третий, четвертый, пятый подвиги Генриха
Множество подвигов совершил Генрих в футболе — капитан дворовых, школьных, институтских, городских — всех команд, в каких ему доводилось играть. Вратарь он действительно очень хороший. Он неплохо прыгает, у него отличная реакция, но самое главное его качество — бесстрашие. Стоит только посмотреть, как легко он кладет свою голову под занесенную для удара бутсу, чтобы убедиться в этом. Можно подумать, что ему никогда по голове не попадало, так он о ней не заботится. Но ему попадало, и часто, и еще как. Несколько раз его увозили с поля в больницу, и он отлеживался с сотрясениями. Нормального человека такое приучает хотя бы к осторожности. Но и после самой серьезной травмы Генрих бросается под ноги с той же легкостью. Это, надо сказать, обескураживает самого грубого нападающего, и многие из футболистов, кому часто приходилось иметь дело с Генрихом, откровенно его боялись и, видя, как он опять бросается под ноги, просто отбегали поскорей в сторону, — какой там мяч! — лишь бы не попасть ему по голове. Из множества футбольных подвигов Генриха минимум три можно выделить в ранг великих, но излагать все три нет никакой возможности, тем более я не очень-то в футболе смыслю. Знаю только, что в институте, прежде чем стать выдающимся вулканологом, Генрих всерьез подумывал о том, не сменить ли ему коня и не стать ли футболистом. Ему сделали такое предложение, и он мог перейти в команду мастеров. Тут надо отдать должное родителям: папа встал стеной — и так Генрих не изменил вулканам.
Шестой подвиг Генриха
К наиболее невероятным подвигам Генриха относится его прыжок с «Ласточкиного гнезда» в Крыму. Не знаю почему, но именно этот подвиг всегда волновал меня сильнее всех прочих подвигов Генриха. Было ему лет пятнадцать, и это была его первая самостоятельная поездка, без родителей. В Крыму я в ту пору не бывал и очень долго потом представлял себе некий удивительный пейзаж: полосу гальки, голых людей, приставивших ладони к глазам, синий замок, нависший над морем, и на башне его стоит Генрих, взмахивая руками, и все это освещено каким-то странным, жарким и темным солнцем. На прямые мои вопросы, не вранье ли это, что он прыгнул с сорокаметровой высоты, Генрих всегда несколько отмалчивался: не отрицал, но и рассказывать не любил. Зато приятели, бывшие с ним в Крыму, рассказывают об этом охотно и с увлечением, и каждый предлагает свой вариант истории. По одному, конечно же он прыгнул, посвятив свой прыжок одной девочке. По другому варианту, Жени Р., который я предпочитаю, дело заключалось в том, что у них вышли все деньги и, сидя на пляже, голодные, они наблюдали, как голые полковники крупно играли в карты; денег была целая куча, они были тут, рядышком, но они были чужие, что приводило ребят в тоску и уныние. И тогда Генрих, ничего никому не сказав и не посоветовавшись, вдруг встает, направляется к голым военным и говорит: «За тыщу рублей прыгну с „Ласточкиного гнезда“ (в старых деньгах, конечно)». Военные опешили, заругались, заспорили, заиздевались, глядя на щуплую его фигурку, а один, наиболее весомый, вдруг сказал: «Ну что ж, прыгай». И Генрих прыгнул, хотя, надо сказать, никогда до того специально прыжками не занимался, прыгнул и не разбился, а это за всю историю, кажется, третий случай… Я всегда млею от этого рассказа, в который бы раз его ни слышал, а разомлев, спрашиваю: «Ну, а деньги-то они заплатили?» — «Сволочи! — всегда говорит Женя Р. — Всего шестьсот рублей». — «Надо же, — говорю я, — хоть шестьсот». Называет рассказчик, надо отдать ему должное, всегда одну и ту же цифру.
Недавно я все-таки побывал в Крыму и проезжал на катере под «Ласточкиным гнездом». Пейзаж этот разочаровал меня. По сравнению с той картинкой, которая постоянно существовала в моем представлении и была для меня паспортом Крыма, пейзаж этот ничего интересного не представлял. Я смотрел вверх и вспоминал Генриха. Если он сделал такое, думал я, то он действительно великий человек.
Но даже если он не прыгал, все равно Генрих, конечно, великий человек. Потому что любая история об этом человеке вызывает недоверие. Правдоподобных историй с ним просто никогда не происходило. Они его, по всей видимости, никогда не привлекали. И даже та история, про которую 99 из 100 скажут, что это ложь, неоднократно на моих глазах оказывалась правдой. Так что даже если о Генрихе говорят неправду, то это нельзя назвать ложью — это легенда. Правда или не правда, что Генрих прыгал с «Ласточкиного гнезда», никто, да и сам Генрих, сказать не может. Но то, что это одна из самых прочных историй о нем на протяжении уже пятнадцати лет, — факт. Это, по крайней мере, настоящая легенда. А если о человеке существует легенда, он чего-то стоит, не правда ли?
Я бы не успел все это вспомнить, что здесь написано, и не стал бы задумываться над вещами столь далекими, если бы не летел так долго. Оказывается, и жизнь не так уж велика и совсем мало успело произойти в ней событий, если ты долго в дороге. Вторые сутки — и ты уже все вспомнил, и воспоминания начинают прокручиваться по второму разу, и ничего нового не выплывает. Потому что, хоть и чудеса техники, и мы летим всего двенадцать часов эти десять тысяч километров, но и двенадцать часов — время, а к тому же над всей страной кромешная нелетная погода, и мы сидим всюду, где бы ни приземлились, тоже никак не меньше двенадцати часов. Эти часы в перемножении образовали уже семьдесят два часа, а за это время можно не только все на свете вспомнить, но и забыть все на свете и задавать себе в конце полета вопрос: зачем же это я лечу, а главное — куда? Занесло же меня, Господи!
Время в полете
А если тебе так жилось в последнее время, что в самолете тебе не спится, и уже не читается, и в окно не смотрится? Вот стюардессы… Они менялись трижды во время нашего полета. Двенадцать девушек проходят перед вами за эти десять тысяч километров. Одна другой лучше. Ну ладно, бог с ними. Женатый все-таки человек. Но это очень неглупо придумали, что в воздухе есть хоть на что посмотреть. Для меня это был целый театр. Было красиво.
Они появлялись из-за шторки, которую отдергивали и задергивали столь старательно, что поневоле возникало представление: какой же странной и, должно быть, прелестной жизнью они там, у себя за шторкой, живут. Эта не то шторка, не то занавеска не достигала пола, и, хотя я не видел, что за ней делали мои девушки, — я видел их ноги: они сновали там, за шторкой, стройные, на высоких каблуках, обрезанные нижним краем занавески по колено. Их закуток за шторкой был освещен много ярче, чем салон, из-под шторки бил яркий свет, и у меня возникало ощущение, что я сижу в кукольном театре, где на большой сцене, в большой плоскости занавеса, вдруг освещается небольшой прямоугольник и там оживают куклы. Ноги, то одни, то другие, сновали по этой маленькой сцене и явно разыгрывали какую-то пантомиму, пластично, в хорошем ритме.