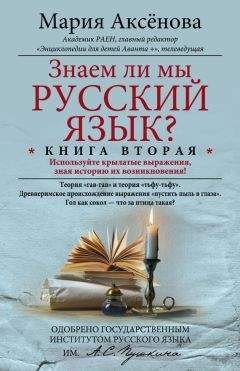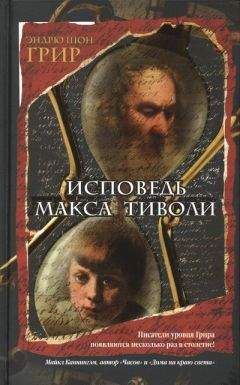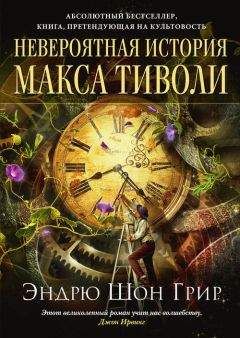мне свое состояние, если я ему помогу. Можно сказать, он торговался за моего мужа.
– Я могу о вас позаботиться. Подумай о Сыночке, он сможет поступить в колледж. Жизнь еще не прожита, не решена. Подумай о том, чего ты хочешь.
Я сказала: не может быть, чтобы ты серьезно, – и он ничего не ответил.
– Как я тебе помогу? – Я взяла его за предплечье, но не смогла взглянуть ему в лицо. Вместо этого мои глаза обшаривали комнату, старую мою гостиную, всегдашнюю свидетельницу событий моей жизни. По дому гулял ветер, и в щель под дверью начал просачиваться песок. Где-то там по радио зазвучал «Поцелуй огня».
– Кто-то стоит на пути, – сказал он, чуть-чуть улыбнувшись.
Я бы вечно жила в Аутсайд-лэндс на берегу океана, вырезая строчки из газет, а виноград сплошь заплетал бы дом, как в сказке – в «Спящей стражнице», – а тетушки время от времени изумляли бы меня подарками и историями, я каждый вечер целовала бы мужа перед тем, как лечь в кровать, я бы это смогла. Но он явился в мой дом, словно приливная волна, и разрушил мой маленький замок. Я не могла поверить ушам, я знала, что плохо будет всем нам, а то, что он сказал, прозвучало как незаслуженный приговор. К казни на электрическом стуле.
– Больше никогда сюда не приходи, – сказала я.
* * *
Он ушел, а я закрыла и заперла дверь, а затем и каждое окно в доме, словно ночью он мог как-то пробраться обратно и я бы проснулась и обнаружила его у себя в гостиной.
– Подумай об этом. И позвони мне, пожалуйста, – сказал он перед тем, как я захлопнула за ним дверь. – EX-brook 2–8600.
Номер я помню до сих пор. Я села на диван, рядом пристроился Лайл. Мы вдвоем смотрели на полосы света, пробегавшие по полу, когда по нашей улочке проезжали машина за машиной. Мы слушали, как соседи перекликаются от дома к дому, обсуждая Розенбергов или дело Шень, как беседа плыла по течению, пока они не желали друг другу спокойной ночи. После долгого затишья снова был слышен рык океана. Лайл не двинулся с места. Муж не позвонил. Базз не вернулся.
Я допила виски, не меньше полбутылки, а потом, когда улицы опустели и в ночи воцарилась океанская прохлада, я проверила Сыночка – он спал, высунув ногу из-под одеяла, со слипшимися из-за мимолетного кошмара ресницами, приоткрыв рот, словно девушка в ожидании поцелуя, – и, спотыкаясь, в слезах завалилась к себе в спальню. Мой взгляд упал на корзину для бумаг.
Там горой лежали вырезки: новости, которые я подвергла цензуре ради больного сердца Холланда. Сердца, которое, оказывается, билось так же ровно, как мое собственное. Каталог американских будней, которые все мы прожили, а муж – нет. Я опрокинула корзину на кровать, вывалив шуршащую бумажную кучу.
Я читала вырезки одну за другой и думала об остальных бессчетных заметках, вырезанных мною за все субботние утра замужней жизни. Я была пьяна, не в себе, сделанные открытия привели меня в бешенство, а сердце билось о грудную клетку, словно человек, в панике пробирающийся сквозь толпу. 1953-й. Мир, в котором только что кончилась война и началась другая, словно дьяволов хвост, отрастающий на месте отрубленного. Как и в прошлый раз, были и враги, и мобилизация, только сейчас к ним прибавились ядерное оружие, кладбища ветеранов, отказывающиеся хоронить чернокожих, указания властей, куда смотреть при ядерной вспышке, под каким сооружением прятаться, когда завоют сирены. А ведь они наверняка знали, что это безумие – смотреть, прятаться и вообще что-то делать, кроме как лечь наземь и принять смерть на одном дыхании. Были слушания подкомитетов, а в телевизоре Шиди спрашивал Маклейна: «Вы что, красный?», после чего Маклейн плеснул ему в лицо водой, а Шиди ответил тем же и сбил с него очки. Мир, где телеканалам приходилось сегрегировать персонажей сериалов ради зрителей из южных штатов, где с выставки в Сан-Франциско убрали всю обнаженную натуру, так как «местная мать семейства миссис Хатчинс была оскорблена в лучших чувствах», прекрасный остров Эйнджел стал ракетной базой, а белого студента выгнали из колледжа за то, что он сделал предложение чернокожей девушке, и в Триесте митинговали против нас. Восьми лет не прошло, как мы освободили Триест, и вдруг нас там возненавидели… А надо всем этим парил, каждый день появляясь в печати, тот газетный портрет, похожий на фото кроткого Прометея: лицо Этель Розенберг.
Когда дадут отбой тревоги? Разве нам не обещали отбой тревоги, если мы будем хорошими, честными, добрыми, готовыми умереть за то и верить в сё, и все будем делать правильно? Где наш отбой тревоги?
Но это был еще не конец. Невидимый мир, теперь сделавшийся очевидным, как те шифры, которые можно прочесть только в специальных очках. Это было всегда: список мужчин, арестованных за преступления на сексуальной почве, четверть из них – за соития с мужчинами, список имен прямо в газете, сразу после призыва «сломить хребет» воображаемой угрозе безопасности – едва подтвержденной и уж точно не подлежащей критике, – сотни сотрудников Госдепартамента, уволенных за слухи о непристойных поползновениях. Белый флотский врач, оправданный судом после того, как выколол глаза чернокожему, который предложил ему «нечистое извращенное соитие». И молодой Норман Вонг, улыбчивый, в изящном черном костюме, обремененный четырнадцатитысячным долгом за садовую ферму, который упросил белого военного летчика – своего любовника – убить свою жену ради страховки. Он повторял: «Я слишком сильно ее любил, чтобы самому застрелить». На фото некрасивая Сильвия Вонг, неубиваемая жена, в застегнутой под горло блузке, скрывающей раны, плакала в зале суда, потому что любила Нормана, а если его посадят, ей придется ждать два года, чтобы родить ему детей.
Позднее я пошла в библиотеку, чтобы посмотреть в лицо своим худшим страхам, заставила себя читать о вещах, которые даже судебный стенограф счел слишком «отталкивающими», чтобы приобщать к делу. Полицейские подглядывали в окна и замочные скважины, сверлили дырки в стенах,