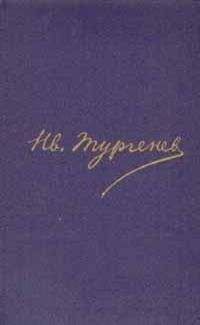В этой же статье Писарев упрекал Тургенева в «невеликодушном» отношении к Веретьеву, в том, что он смотрит на Веретьева «слишком легко и слишком презрительно». Он писал, что «жертвы нашего собственного тупоумия, нашей собственной инертности имеют право на наше сочувствие или по крайней мере на наше сострадание» (там же).
Критик «Русского слова» Ап. Григорьев считал, что, создавая образ Веретьева, Тургенев стремился «развенчать в этом типе сторону безумной страсти или увлечений и безграничной любви к жизни, соединенных с какою-то отважною беспечностью и верою в минуту» (Григорьев, т. 1, с. 321). Однако, по мнению Ап. Григорьева, Веретьев, вопреки замыслу автора, вызывает у читателей симпатию. Его «бесплодное существование точно являлось бесплодным, — писал Ап. Григорьев, — но созданное поэтом лицо, в минуты страстных своих увлечений, увлекало невольно, оставалось обаятельным, не теряло своего колорита» (там же).
Люди типа Веретьева, очевидно, очень часто встречались в русской помещичьей среде. В одном из своих писем к Тургеневу Е. А. Ладыженская — писательница и переводчица, выступавшая в печати под псевдонимом С. Вахновская, — писала: «…я знаю одного человека, деревенского соседа, смесь Веретьева с Гамлетом Щигровского уезда, но в нем есть еще своя собственная отличительная черта, которая немного сдается на разочарованность байроновского героя; он аффектирует постоянно всевозможные дурные наклонности, как-то: пренебрежение к религии, цинизм, сухость сердца, неуважение к матери. Он говорит, что в женщинах признает одно тело и что он не способен на чувство. А между тем это самый впечатлительный и, можно даже сказать, добрый человек, но люди н мужики про него говорят: „Что в таком барине, не греет и не студит!“» (Т сб, вып. 2, с. 363–364).
О распространенности в русской действительности героев-неудачников с богатой, художественно одаренной «натурой свидетельствует также рассказ Тургенева «Петр Петрович Каратаев» (1847), вошедший в «Записки охотника». Трагическая судьба Каратаева и в особенности сцена его последнего свидания с рассказчиком перекликаются с заключительными страницами «Затишья»: и Каратаев и Веретьев становятся полунищими завсегдатаями трактиров.
В оценке другого мужского образа «Затишья» — Владимира Сергеевича Астахова — критики самых различных общественно-политических лагерей были единодушны. П. В. Анненков писал, что «Астахов весь состоит из одних поползновений к чему-либо и называет себя практическим человеком, прикрывая титлом этим неспособность к пониманию благородного в жизни и мысли» (Совр, 1855, № 1, отд. III, с. 15). С Анненковым был согласен и А. В. Дружинин, который писал, что в Астахове отразились «особенности целого класса петербургских юношей, неспособных на жизнь, вследствие самой их жизни, принявшей ложно-практическое направление» (Б-ка Чт. 1857, № 5, отд. V, с. 16).
С еще большей резкостью и определенностью охарактеризовал Астахова Чернышевский, назвав его «бездушным пошлецом», «который свою низость и бесчувственность прикрывает европейскими фразами и приличными манерами» (Чернышевский, т. 4, с. 699).
В повести «Затишье» Тургенев широко воспользовался теми впечатлениями, которые он накопил, живя в провинции и общаясь с обитателями дворянских усадеб.
В воспоминаниях о Тургеневе Е. М. Гаршин следующим образом передавал слова писателя, сказанные им по этом поводу:
«И в конце концов мастерство художника в этом и состоит, чтобы суметь пронаблюдать явление в жизни и затем уже это действительное явление представить в художественных образах. А выдумывать ничего нельзя, заключил он свою речь.
И ту же самую мысль он стал развивать почти в таких же выражениях в другой раз, когда пришлось цитировать из „Затишья“ известную фразу о Матрене Марковне, которая „насчет манер очень строга“, причем „чуть что, а уже бирюлевским барышням всё известно“» (Гаршин Е. М. Воспоминания об И. С. Тургеневе. — ИВ, 1883, № 11, с. 384).
Имеется свидетельство современников, что в образе Помпонского Тургенев изобразил И. П. Арапетова, видного чиновника, окончившего Московский университет одновременно с Герценом и Огаревым. Так, Б. Н. Чичерин в своих воспоминаниях пишет, что Т. Н. Грановский, прочитав повесть «Затишье», сказал: Тургенев «в конце, в виде какого-то господина Помпонского так очертил Арапетова, что нельзя не узнать» (Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 137 и 135).
Героиня повести Марья Павловна также имела реальный прототип. Об этом пишет Н. А. Островская, которой Тургенев рассказывал, что в «„Затишье“, в лице Маши, представлена им девушка, малороссиянка, которую он знавал в молодости и в которую был немножко даже влюблен.
— И она действительно стихов не любила, — говорил Тургенев. — Я в самом дело однажды прочел ей „Анчара“ и — он произвел впечатление.
— Сюжет, конечно, сочинен? — спросила я. — Она, надеюсь, не утопилась?
— Конечно, нет, — отвечал Иван Сергеевич, — хотя она и была способна на это» (Т сб (Пиксанов), с. 91).
Образ Марьи Павловны привлек к себе внимание критики, которая увидела в нем раскрытие новых для литературы черт характера простой русской женщины. Рецензент «СПб. ведомостей» писал, что Марья Павловна — «это девушка энергическая и благородная, с натурой истинно поэтической». При этом, по мнению рецензента, Тургенев «не польстил этой избранной натуре, не украсил ее совершенствами, чуждыми воспитанницам „Затишья“» (СПб Вед, 1854, № 218, 1 октября).
М. В. Авдеев, автор нескольких статей, посвященных анализу женских образов в русской литературе, писал в 1874 г., что «во всей русской литературе мы не встречаем такой цельной, крупной, такой строгой, хоть несколько грубой женщины», как Марья Павловна (см.: Авдеев M. В. Наше общество в героях и героинях литературы. СПб., 1874, с. 215). Авдеев объяснил трагическую гибель Маши тем обстоятельством, что до самого последнего момента жизни ее самосознание не было разбужено. По его мнению, крик о помощи, вырвавшийся из груди Марьи Павловны, является признаком «слишком поздно пробудившегося сознания», которое подсказало ей, что «человек, из-за которого она гибнет, не стоит ее чувства, что самое чувство изменяется, что жизнь хороша, и есть на земле нечто кроме любви, столь же великое и глубокое» (там же, с. 224).
Единственный критик, осудивший образ Марьи Павловны, был критик «Современника» А. Н. Острогорский, который в статье, «По поводу женских характеров в некоторых повестях» писал о «крайней бесхарактерности и бесцветности Марьи Павловны» (Совр, 1862, № 5, Современное обозрение, с. 20). Острогорский считал, что трагическая развязка отношений Веретьева с Марьей Павловной объясняется тем, что Марья Павловна требовала от Веретьева жертв, «не возбудив к себе уважения» (там же). «Уважение посторонних, — объяснял критик, — возможно только для лиц, уважающих себя, пекущихся о своем нравственном развитии, о выработке характера и убеждений и действующих сообразно с ними до тех пор, пока эти убеждения не будут поколеблены» (там же, с. 14).
Начав свою литературную деятельность как писатель «натуральной школы», Тургенев и в повести «Затишье» продолжал борьбу с ложным романтизмом, воспитывая у читателей способность видеть истинно прекрасное в реальной действительности, окружающей их. Именно поэтому повесть Тургенева вызвала сопротивление у поклонников и поклонниц «возвышенной» литературы. Е. А. Ладыженская писала по этому поводу Тургеневу: «Хотите выслушать суждение одной провинциальной барыни, сентиментальной вдовы, о „Затишье“? — я ему смеялась от души: Читали ли вы „Затишье“? — спрашиваю я. — Как же, но не имела терпения докончить, я привыкла читать повести с возвышенным слогом; вот Марлинского „Фрегат надежды“ — это другое дело. А тут никакого романтизма нет; героиня с красными руками… и какие выражения: „осклабился“, — просто тривиально!» (Т сб, вып. 2, с. 361).
Несмотря на то, что «Затишье» еще страдает некоторой рыхлостью композиции, которую отмечали и критики и литературные друзья Тургенева, несмотря на то, что в этой повести еще не выработалась единая манера художественного изображения и первая часть повести напоминает зарисовки с натуры, а вторая зачастую сводится к беглому рассказу о дальнейших событиях, — несмотря на всё это повесть «Затишье» — заметный шаг на пути освоения Тургеневым «новой манеры». Это отмечалось К. К. Истоминым (см.: Истомин, с. 109–111); эту же мысль развивал и Б. М. Эйхенбаум, который считал «Затишье» «некоторым итогом по отношению к ряду рассказов и повестей, написанных раньше» (см.: Т, Сочинения, т. VII, с. 357).
Многоплановая композиция повести, позволившая проследить судьбы героев из разных слоев русского общества, переплетение лирико-психологической и иронической манеры повествования — всё это создавало художественные предпосылки для появления тургеневских романов.