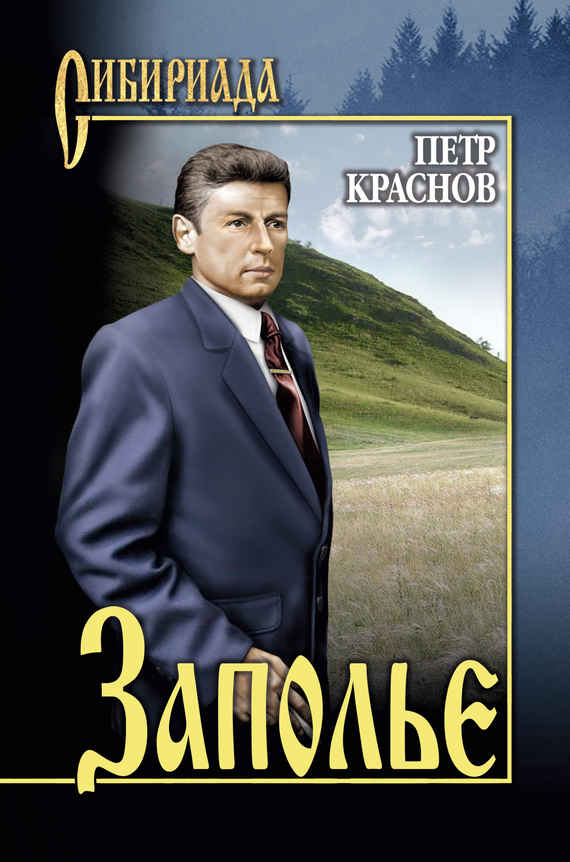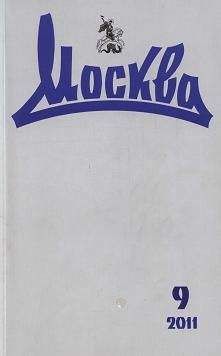родное, отстало верующее, какое только в ногах путается, цепляется… Дяди подвели, не справились, по термину эпохи той — «переродились», но не идея, она-то как была великой, так и осталась — впереди, в будущее отступившая в ожидании мудрых исполнителей, какие восстановили бы связь времен, старое родное с новым. И чем шире и зловоннее разливалось болото семибанкирщины, тем она величественней виделась на горизонте, идея, вышедшая наконец из кровавых, неизбежных в истории пелен, из родовых кровей. Он и сейчас, в числе многих, видел в ней единственную надежду на хоть сколько-нибудь человечное завтра, а тогда искал ей нужное и наивозможно емкое определение, думал в меру разуменья своего, рылся в разноречивых выкладках и смыслах, пока сам для себя не нашел, не вывел: «русский социализм». И, как оказалось, непотерянное искал, встретив позднее в точности такое же у Достоевского самого, с вариантом «христианский»… Сколько же нам еще по кругу-то ходить?!
А великая если, то прорастет, рано или поздно, а вразумится, воплощенье найдет. Без нас, само собой, Смута только что началась, считай, и ох как не скоро еще это гноище выболеет и прочистится, кровью невинной промоется, единственным этой самой истории эликсиром, — вот что никак уж не экономится…
Не дано, и как попросишь? Он не знает. Да и припозднился, похоже, рок уже в действии.
Иностранцы удалились, над их столом хлопотали, прибираясь; и он не стал завидовать вдогонку им, их опыту: нечему. Своим бы распорядиться, уникальным же, чуть не вслух сказал он с остатком водки графинчику, свой девать некуда. Офицерам, ровесникам его, принесли коньяк, капитан налил товарищу, себе и, глянув зорко, без колебания наполнил рюмку Ивана. Спросил, как звать, себя назвал, друга, сказал: «За что?..» Вместо ответа Иван вспомнил, прочел: «Век двадцатый — век необычайный. Чем он интересней для историка, тем для современника печальней…» «А точно, слышь! — весело удивился старлей, как-то бесшабашно мотнул головой. — И за это давай! За родину». И в дергающихся, в неверных сполохах со сценки, под гнусавые рулады саксофона и тамтамы ударника они выпили. А те под своими фонарями работали, корчились, прыгали тенями, будто кого суетливо ногами били — первого в темном переулке попавшегося.
Мать спала, наверное, — одна, на старой, ее костистым, тяжелым телом продавленной кровати, в избенке на глинистом, разъезженном косогоре к речушке их, Мельнику, вода которого от долгих дождей была давно мутна и ледяна. Спала тяжелым от дневных трудов, старчески неспокойным уже и настороженным от недоверия к жизни сном; забывшись, всхрапывала порой, но тотчас замолкала, будто вслушиваясь, не пропустила ль чего, не сдвинула ль ненадежного равновесья ночи, душной избяной тишины ее, пересыпаемой смутной иногда сторожкой дробью в стекла, тревожимой глухими вздохами ветра за стеной. Осенняя ночь облегла все, пути перекрыла, сиротские в себе приютила поля, перелески обобранные, к самым окнам человеческих жилищ подступив и приникнув мокрыми бездонными глазами — своим забвеньем милосердным наделяющая каждого в меру усталости его, в меру дневной суровости бытия, его холодно испытующих, невыразимо блеклых порою и твоего вовек не разумеющих глаз.
Что снилось ей? Картошка, наспех спущенная в погреб, порядком так и не перебранная? С полузабытым, с недвижным каким-то, на давних фотокарточках такие бывают, лицом сын первый, Василий, лихолеток, совсем сшедший с круга, как пошел опять походом кабак на Русь, с цепи спущенный? Чуть уж не полтора десятка лет как птиц божьих кормит она в Троицыну субботу, и подаянья на помин души не подай, нельзя, сам себя решил, хорошо хоть строгостей прежних нет — на могилках похоронен, в ограде. Или муж с насквозь застуженным нутром, недолго протянул после войны, шилом сыромятную упряжь ковыряя в темной хомутной, сгас — он, незапамятный, привиделся? Или, может, снится запруженный подводами майдан перед лавкой — он, магазин, и нынче там, — и как бабы в голос кричали, в который раз перед железным ликом назначенной им кем-то судьбы, как мужиков даже корежила слеза, а им, детишкам, все вроде ничего, страшно только и жалко всех, остающихся не меньше, чем отъезжающих, и как сельсоветский писарь считал их, из кучешки перегонял в кучешку; а потом дорога эта, не всех раскулаченных доставившая до места, холодные стогны чужих селений, немилые сердцу и ему больные пространства те хмурые по-за лесами, те давние… Много чего сниться могло, ей не, прикажешь, выпущенной протоптаться, в свободу забытья отпущенной ненадолго своей душе, где и что навестить там, в своем, к какому приклониться холмику — много их, так много, что и не хватает ее, порой кажется, души.
На все не хватает, да так с нехваткой души и живет человек, уж очень велика у него, длинна жизнь, по ноздри; только и осталось что на второго, младшего, да еще на внучку, которую всего-то и видела разок, больше не позволили, — его видит душа? Один теперь там, в городу, разведенный, неухоженный, в последний раз приезжал — смутный, весь как посоловелый, скажи, и с лица спал, позовешь — не слышит… Не испортился бы там. С подружкой приехал, знакомил: разведенка тоже, сын был, мать жива… ну, теперь что ни приведи — все ко двору, до кучи. А не худая, тело есть, ручки хоть небольшие, а сноровкие, все успевают; светленькая такая, самостоятельная и его, поглядеть, уважает — пусть… Его ищет душа и что-то не находит в потемках застарелых болей, позабытых лиц и — господи, прости, — вековечного все ж непониманья, кто это с нами творит такое, зачем и, главное дело, за что…
И дочка спала, для старухи где-то затерянная в городе огромном, смутном внучка, годик с небольшим всего, — спала, еще только пробуждавшаяся от сладких снов младенчества, где и обиды-то пока не распутались с радостями, неделимо сейчас на них существованье, и где явное в ней чуть не вслух тайной ангельской бредит, миру выговорить ее пытается — который не слышит. Розового прижала к себе зайца, нежным жаром тельца холод жизни вокруг себя растопив для тебя, отца, запахом родным размягчив, и на щечке ее заспанной запечатлено больше, может, чем во всех тобой прочитанных человеческих книгах, в знаниях, никого не спасающих, спасительного не дающих утоления, искупленья неполной твоей душе; и в детские сны ее, осененные всеми в свете чудесами, приходят деревья и дома, небо входит, вмещается все оно, и огромная добрая собака соседская опять лижет ей, замирающей от счастливого страха, шершавым своим языком ладошку… Неужто ж есть оно, счастье? Оно что, дурацкий этот розовый заяц, дитя