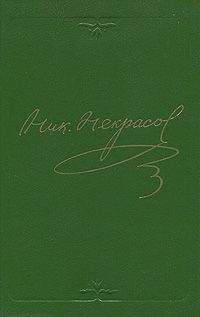— А! мое почтение, Борис Антоныч!
Горбун вздрогнул и, отняв руки от лица, сделал к Кирпичову умоляющее движение.
— Посмотри, посмотри на меня по-человечески! — сказал он рыдающим голосом. — Я больше не браг твой… не враг.
— Друг, закадышный, друг! — отвечал Кирпичов с диким хохотом. — Ха, ха, ха! засадил в тюрьму, обокрал… вот друга, так друга нашел я!
— Выслушай меня, ради всего, что у тебя есть дорогого, выслушай!
— Дорогого? что у меня теперь есть дорогого? — сказал Кирпичов. — Дорожат люди честью — ты у меня ее отнял… дорожат деньгами — ты тоже отнял их у меня! Я пустил по миру своих родных детей… слышишь ли ты, злодей? Я родных детей сделал нищими… понимаешь ли ты, можешь ли ты понять? Или не было у тебя детей? И хорошо! Не то они, верно, отреклись бы от такого отца, прокл…
— Погоди проклинать меня! — с ужасом перебил горбун, хватаясь за перила. — Ты не знаешь, кто стоит перед тобой!
— Как не знать? Борис Антоныч Добротин! как не знать мне его? он лишил меня всего состояния, он опозорил меня на всю Россию, даже и дети мои будут стыдиться, что имели такого отца! Как не знать мне его? — насмешливо повторял Кирпичов.
— Перестань, прошу тебя — перестань! ты сам отец, пойми же меня… ведь я твой отец! — в отчаянии вскрикнул горбун и кинулся было к Кирпичову.
Кирпичов отстранил его рукой.
— Какой отец и чей? — спросил он.
— Твой, твой! — поспешно отвечал горбун.
— У меня нет отца, я не знавал его. Бросил он меня! Отец! отец! Будь отец, он научил бы меня добру, не потерял бы я своей чести… На что мне теперь отец? все для меня в жизни кончено… я нищий, меня многие считают вором… зачем мне отец теперь?
— Меня обманули: мне сказали, что ты умер.
— Тебя не обманули: я точно умер… я никуда не гожусь теперь! Разве отец станет сажать сына в тюрьму? разве станет учить его делать то, чему ты меня научил? Ты лжешь! погубил меня да еще хочешь смеяться надо мной!
— Я тебе дам капитал, я уничтожу твои векселя, ты будешь жить по-прежнему… будешь богат… будешь гулять, — в отчаянии твердил горбун.
— Зачем ты сулишь мне деньги? я знаю тебя хорошо… да и что мне в них теперь? Я их имел: что же я сделал из них? а, что? Я бросал их тем, которые льстили мне, и, выгонял тех, кто молил помощи… что мне в той жизни, какую я вел? пьянство… да оно-то и погубило меня… Нет, ничего мне не надо! я век свой прожил словно как животное, прожил свои и чужие деньги, пустил по миру жену и детей. Я все сделал низкое и злое, что только может сделать человек! Так зачем мне еще деньги? чтоб опять поить и кормить льстецов да обсчитывать бедных и честных людей? Нет, уж кончено! не увидишь, не налюбуешься ты больше моим позором, моими черными делами… Нет, нет! — закричал Кирпичов и побежал по мосту.
Горбун кинулся за ним; он хватал его за шинель, кричал ему раздирающим голосом:
— Прости, прости своего отца!
— Отец! — с хохотом повторил Кирпичов. — Да, хорош отец!
И он пустился бежать еще шибче. Горбун бежал за ним, но силы изменили ему. Далеко опередивший его Кирпичов остановился у фонаря и крикнул горбуну:
— Смотри! вот что мне осталось делать! И он перешагнул через перила.
Горбун сделал над собой отчаянное усилие, подскочил к сыну и, схватив его за шинель, дико закричал:
— Помогите!
Раздался глухой и печальный плеск волн. На секунду нарушилось постоянное теченье реки, как будто с торжественной почтительностью принявшей в свои объятия Кирпичова, — и тотчас же волны снова потекли мерно и тихо.
Горбун держал в руках шинель сына, устремив безумные глаза вниз, и кричал о помощи. Вдруг что-то черное мелькнуло над водой, раздался слабый мгновенный крик,
— Тонет, тонет!.. сын мой тонет! спасите, спасите!.. О, я сам спасу его! — закричал горбун и кинулся с моста спасать своего сына…
Еще раздался глухой и печальный плеск, — волны расступились и тотчас снова плотно сомкнулись и потекли своим неизменным путем…
Глава XII
Киргизские степи
А что Каютин?.. Забытый читателем на Новой Земле, он воротился в Архангельск в начале лета. Первым делом его было бежать на почту, куда просил он своих друзей адресовать к нему письма, с тем, чтоб их оставляли там до его прихода. Ему отдали несколько писем от Данкова, много писем от Душникова, но писем, которых он особенно ждал, — писем Полинькиных, — ни одного! Сильное горе взяло бедного труженика, который после долгих странствований, после утомительной работы и скуки надеялся, наконец, отвести душу. Какая могла быть причина этого молчания? Тяжкая болезнь, смерть? Но в таком случае или башмачник, или Надежда Сергеевна непременно уведомили бы его… Думал, думал Каютин и решил, что другой причины не может быть, кроме той, что Полинька забыла его. В этом случае понятно молчание друзей его, так же как и ее собственное. Под влиянием этой тяжелой мысли Каютин написал Полиньке то резкое и грустное письмо, которое, попавшись ей в руки вместе с другими через Граблина, привело ее в такое негодование.
В числе писем Душникова было одно, недавнее, в котором Душников описывал приволье жизни в прикаспийском краю и звал своего друга попробовать счастья в тамошних промыслах, обещая ему верную прибыль, если только он еще не довольно приобрел, чтоб расстаться с страннической и труженической жизнью.
Каютин не долго думал. Как ни хорошо шли весенние промыслы на Новой Земле, однакож при первоначальных неудачах чистая выручка не могла быть слишком значительна. И притом, зачем он будет теперь торопиться в Петербург?
Товар поспешили продать, и Каютин, не теряя времени, отправился в Астрахань. Хребтов сопровождал его.
Других людей, другую природу увидел наш герой.
По положению своему, на берегу Каспийского моря, при устьи текущей из глубины России Волги, Астрахань представляет один из важнейших пунктов нашего отечества в торговом и политическом отношениях. Состоя преимущественно из обширных бесплодных степей, бедная местными средствами, Астраханская губерния небогата оседлым населением. И притом целая треть его приходится на долю губернского города, служащего средоточием всего рыболовства Каспийского моря, занимающего многие тысячи рук. Сюда стекаются для найма из верхних губерний рабочие люди, здесь строятся суда и заготовляются рыболовные материалы, провизия, соль; здесь, наконец, складочный порт всего улова Каспийского моря.
Населенный богато и разнообразно, город особенно поражает своею пестрой, полуевропейской, полуазиатской физиономией. Церкви и мечети, обыкновенные дома, встречающиеся во всех русских городах, дома, закрытые снаружи заборами; татары, хивинцы, калмыки, армяне, киргизы, русские мужики; костюмы европейские, национальные русские, татарские чухи, цветные халаты, белые покрывала армянок; дрожки, коляски, татарские телеги, навьюченные верблюды, верховые лошади — вся эта смесь строений, племен, одежд, экипажей и всего прочего производит зрелище странное и занимательное.
Но Каютину некогда было долго бродить по городу и любоваться его оригинальной наружностью. Предуведомленный заранее, Душников уже приготовил все, чтоб немедленно приступить к делу. Снаряжены были две большие барки, так как средства Каютина позволяли ему теперь вести промысл в размерах значительных, и друзья наши отправились в свой участок.
Все каспийские воды и устья притекающих к морю рек разделены на участки, из которых одни принадлежат частным владельцам, другие казне. Казна предоставляет свои участки свободной промышленности, с платою определенной пошлины. Участок, снятый Каютиным, по совету Душникова, составлял часть так называемых Эмбенских Вод, идущих вдоль восточного берега, и прилегал почти к самому Колпинскому мысу. Отсюда к югу промысел становится опасным: тюркмены и киргизы, кочующие по берегам полуостровов Бузачи и Тюк-Караганского, часто нападают на промышленников, грабят и забирают их в плен.
Каютину и Душникову опасаться, однакоже, слишком было нечего: на двух судах их находилось до сорока человек сильного и смелого рабочего народа, хорошо вооруженного. По совету осторожного Душникова, оружия взято было даже более, чем требовалось при промыслах:
Таким образом, подстрекаемые хорошим уловом, который с каждым шагом вперед становился выгоднее, они, наконец, очутились у самых берегов Тюк-Караганского полуострова.
То была уже глубокая осень, в том краю особенно приятная своей ровностью и умеренным холодом. Солнце быстро опустилось в море, наступил вечер. Барки наших промышленников бросили якорь в виду тюк-караганских берегов. —
Каютин стоял на палубе своей барки. Небо было чистое и ясное; волны, чуть колеблемые тихим ветром, лениво плескались, чуждые своей обычной торопливости; ничего мрачного и пугающего не было в их шепоте; они как будто говорили о спокойствии. Но в душе его не было спокойствия.