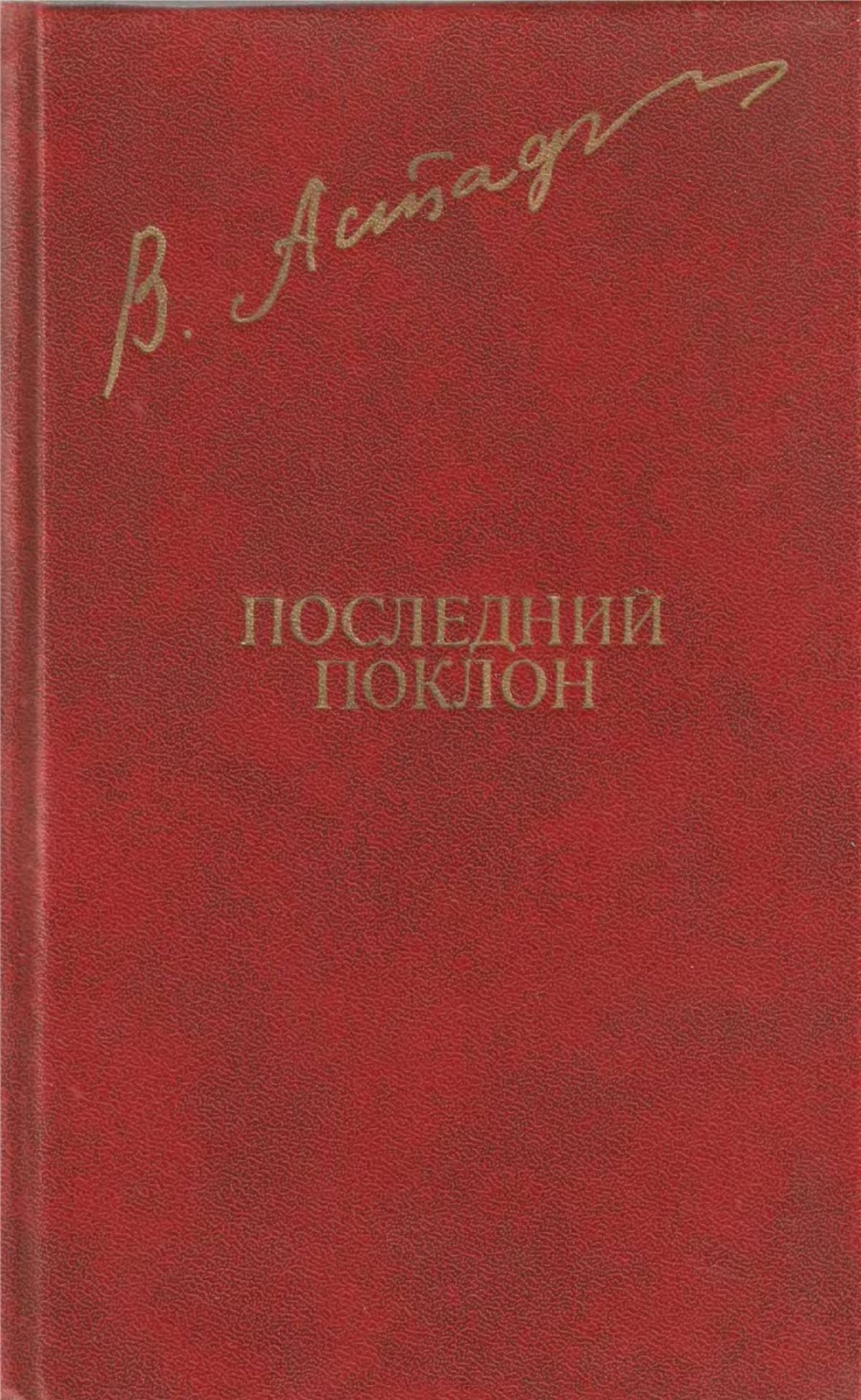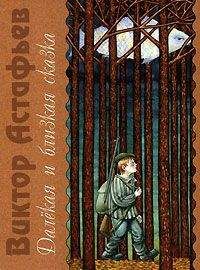с обломанными вершинами и так просторно, что меж них зеленеют густотравые веселые кулиги. Здесь тоже были сенокосишки, и мужики порой с топорами, кольями делили их, потому как плохо в наших горных местах с сенокосными угодьями. И в таком вот месте, откуда сена спустить зимой сподручно лишь отчаянным мужикам на не менее отчаянных и диких конишках, считался покос удачным. Ныне тут не косят. Чапыжник да осинники трясут листом по старым покосам; кипенью золотистых цветков залиты склоны гор, забытыми кострами бездымно догорают в желтой пене курослепа дикие пионы.
Ниже по склону, в сырости кипунов все растет еще пестрей, и вот среди вольно растущей лесной всячины сверкнула слюдянистыми лепестками любка, редко у нас произрастающая и почти не замечаемая ребятишками, избалованными множеством цветов ярких, крупных, как бы напоказ друг перед другом выставляющихся. Однако старые люди, век прожившие в колдовском селе, в особенности девки, знали тайну травы любки, ходили за нею в таежные дали, лазили «к лешакам», в болота, как говорили сами же, и сушили любку, пряча от «дурного» глаза. Любка считается верным приворотным средством не только в нашей местности, но и по всей Руси. Хочешь развести парня с девкой или, наоборот, завлечь его, неразделенную любовь хочешь сделать взаимной — настоем корня любки незаметно, по рюмочке, пои «предмет сердца» да шепчи при этом складный приговор: «Пленитесь его (иль ее) мысли день и ночь, и в глухую полночь, и в кажен час, и в минуту кажи у, обо мне вечно. И казался бы я ей (ему) милее отца-матери, милее всего роду-племени, милее красна солнца и милее всех частых звезд ночных, милее травы, милее воды, милее соли, милее всего света белаго и вольнаго…»
Как доверительно, как простодушно-то! Только не испорченные, зла за душой не таящие люди могли желать такого высокого и простого счастья себе и возлюбленному. Так отчего же при такой открытой вере в любовь и добро столько зла на земле? «Хочешь жить — убей!» Да я бы по всем лесам и болотам собирал любку, дни и ночи настаивал ее корешки и не рюмкой, а ковшом поил бы людей, только чтоб одумались они, преисполнились уважения друг к другу, поняли бы, что любить и страдать любовью — и есть человеческое назначение, или веление божье, или еще там что такое…
Минута, другая, пробежка по гребешку скалы — и вот тайга за спиной. Впереди открывается простор, от которого и по сей день у меня заходится сердце и хочется мне сидеть и сидеть на вершине утеса, смотреть и плакать. Пуще приворотного зелья мне эта даль и эта близь — леса, горы, перевалы, и главное — вот эта, притиснутая ими к Енисею деревенька, издали, с высоты, такая сиротливая, такая смирная, такая заброшенная, что стоном стонать хочется от любви и жалости к ней.
Я присел на край утеса, свесил ноги, стронутый мною камешек покатился вниз, из куста шипицы подпрыгнула и катнулась нежившаяся на припеке серая змейка. Грозно подняв узкий поплавок головы, она струйкой стекла вниз, в каменную щель. Я испуганно подобрал ноги.
Смотрю, не могу оторвать взгляд от села. Пришитое строчками поскотин и огородов к увалам, выгнувшееся полукружьем по берегу Енисея, оно стоит на ногах, несколько кривых, как бы нетрезвых, потому что нет-нет да какая-нибудь изба выскочит из порядка либо задом к миру повернется, а к лесу передом, — поперечный, озорной и расхристанный народ есть в селе, он как хотел, так и строился — ндраву его не перечь! Иные бани или стайки лучше изб выглядят, крупнее, основательнее ставлены, тесом крыты, изба же под дерном, может, хозяин хотел обстроиться после, но закрутил его ход жизни, запил он, махнул на обзаведенье рукой? Может, и погиб в тайге, на промысле, не достроясь? Может, при разделе с отцом или с братьями ущемлен был и теперь пи в жизнь не покроет крышу, чтоб все видели и знали, как с ним обошлись родители, какими наделили хоромами…
Недавно из записей великого русского путешественника Степана Крашенинникова, сделанных в 1735 году, узнал я, что село Овсянка восходит к давним временам, и, стало быть, одно из старейших оно на Енисее и ровесником является городу Красноярску. «На правой стороне Енисея есть пещера, — писал Крашенинников, — Овсянская называется (та самая, куда забегали мы, играя, и где Санька видел домовниху с домовым). Длиною в семь сажен один аршин, а поперек — в одну сажень. Река Енисей против сей пещеры только в двадцати саженях. А еще есть писаный камень в двадцати верстах от этой деревни Овсянки. Половину служивых я наперед к писаному камню послал, чтоб того же дня дорога к нему прочищена была, а сам с остальными в овсянской деревне ночевать принужден был, потому что близ писаного катлня деревни не имеется, а посланным служивым, сделавшим дорогу на Бирюсинскую деревню, которая в пяти верстах от помянутого камня, ночевать ехать велел».
Прелюбопытнейшая запись у Крашенинникова и о красноярцах. Привожу ее исключительно для того, чтобы показать, как неохотно исчезают и меняются привычки людей.
«От пещеры поехавши и на Овсянке лошадей переменивши, в город Красноярск того же дня к вечеру приехали. А здешнего города обычаи, которые мы, в нем живши, подметили, будут следующие: во время праздничное жители по гостям не званые ходят и через-чур упиваться любят, потому что иные из них почти весь город обходить не ленятся и инде чарку вина, а инде стакан пива урвут, и хотя уже в такое состояние придет, что па ногах ходить не может, однако ж лишбы в котором доме шум услышал, понеже из того признавают, что там попойка есть, хотя ползком ползет во двор, чтоб еще напиться…»
В селе нашем что ни двор, то причуда иль загиб какой, если не в хозяйстве, то в хозяине. Вот, например, Федорушка-мужик, дальняя мне родня по отцу, чего-то рассердился на жену, отделился от нее и ото всей семьи, забил дверь во вторую половину избы, живет один себе и жену свою не узнает, заодно и детей. Да кабы только знать их не знал! Он еще всячески вредит бедствующей семье, покоя ее лишает, дрова колет в жилище, весь порог изрубил, и чем больше его увещевают и совестят, тем он шибче кобенится…
Подамся-ка я лучше вниз, к Слизневскому лесоучастку, что прямо подо мною дымит кочегаркой гаража. Зимою в гараже перемерзали отопительные трубы и батареи, а сейчас кочегары решили откочегарить за всю зиму — дать