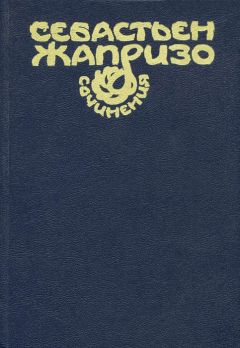Всю ночь я упорно, сцепив зубы, полз по шпалам в обратном направлении, и мне удалось, кажется, проползти до утра изрядное расстояние. Утром вместе с жесточайшей дикой болью в сердце пришло сознание того, что сегодня я умру. Когда в мои затухающий мозг закралась эта мысль, я не был пронзен ею, не был удивлен, не был огорчен, и мне не стало страшно... Потому что кроме как в смерть, у меня не было другой дороги... Спасительная смерть прекратила бы мои мучения, спасительная, прохладная смерть, прохладная, как вода в сентябрьском море моего детства... Я вспомнил вдруг Дом, но он уже остался в другой жизни, не доберешься, не докричишься... Я вновь потерял сознание от, сильного приступа сердечной боли, а когда очнулся - были звезды, и я, как обычно, лежал между рельсов, как между ногами женщины, родившей меня, вскормившей меня, любившей меня, тревожившейся обо мне... и все ради того, чтобы сейчас я подох здесь в ночи, в степи, на рельсах, уходивших в ад... И тогда я почувствовал, как пустота взяла меня за горло, как ласково прижимается ко мне своими костями и тощими, уродливыми грудями, прижимается, жеманно, фальшиво уговаривая ступить в нее, войти в нее, великую пустоту, и я чувствовал еще немного, и я буду принадлежать ей, этой Пустоте. "Боже, - подумалось перед смертью, - а ведь Ты - мрак?.. Я не могу молиться, меня не учили, и я сделался несчастным". И потому Пустота все теснее прижималась ко мне, я был ей сродни, с таким же пустым сердцем, пронзенным болью, я уходил в нее, никого не любя, ни с кем не желая прощаться. Пустота и мрак все теснее, все теснее прижимались ко мне, лежавшему на холодном рельсе. Я вспомнил вдруг всех, всех обитателей Дома: и начальника станции, и тощего телеграфиста, и дочь начальника станции, и его жену, и сторожа, и жену сторожа и буфетчицу, и вечно спящую собаку... собаку, раньше которой мне приходилось подыхать в степи, покинутым, безвестным... Все они до этой минуты были для меня, как тени, а не настоящие люди, потому, наверно, я и называл их сокращенно; я даже не удосужился поближе узнать их, постараться понять, расшевелить их мысль, полюбить их, ведь не все же умерло в их головах и сердцах; нет, нет, напротив, это у меня высохли мысли и осушилась душа, и мне недосуг было сближение с ними, потому что я рвался на свободу, стремился уйти от них, ненавидя в них свое невольное затворничество, доходя порой до того, что мысленно обвинял именно их в этом своем затворничестве... Теперь я понимал, что люди эти ни чем не хуже других, живущих в иных условиях, все люди везде одинаковы, это я сам стал другим, попав в их среду, это я стал сумасшедшим, а не они были, это я внес беспокойство в их мирный, размеренный уклад жизни, а не они вторглись в мою, и это они предлагали мне свое гостеприимство, которым я пренебрег, считая, видимо, что есть первосортные и второсортные люди, первосортная и второсортная жизнь, тогда как есть только жизнь и смерть, и, отвергнув жизнь, неминуемо придешь к смерти, и я сделал свой выбор, за что сейчас и расплачиваюсь. И теперь я вспоминал их с бесконечно теплым чувством, и вы в свой последний час вспомните всех родных своих и близких своих, как я вспоминал самых сейчас дорогих и желанных мне людей -обитателей Дома... Впрочем, кто знает, какие тени обступят человека в его последнюю минуту на земле... Тьма и Пустота подступали все ближе, и я ступил в Пустоту, уже не ощущая холода рельса, на котором лежал, потому что сам постепенно становился таким же холодным и бездушным, сам медленно превращался в холодное ничто, и звезды потухали одна за другой на предутреннем небе, когда вдруг до меня отчетливо донесся близкий, очень близкий перестук колес по рельсам, и я сохранившимися еще крохами ощущений почувствовал вибрацию и гудение рельса, с которого уже не в силах был сползти, не в силах шевельнуть ногой или рукой; и это был Поезд, это стремительно и неотвратимо приближался к моему телу Поезд Божьей кары, но был этот Поезд уже из другого, совсем другого мира, который только что, мгновенье назад, перестал меня интересовать, на который я равнодушно взирал мертвыми глазами с небес, рядом с потухающими звездами... И отсюда, сверху видел теперь его отчетливо, этот Поезд, что тонко, отпевающе свистя, стремительно, стремительно, стремительно всей своей громадой надвигался на мое бездыханное те-е-е-ело-о-о-о-о!