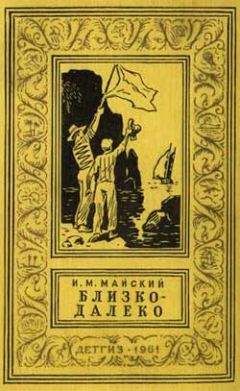На этот раз Лапа не дремал и глаза его светились живым огнем.
– Хожу один в огромной толпе как неприкаянный и решился подойти к вам. Вы не в претензии?
– Ничуть! Чем могу быть полезен? – сказал Николай.
– Обществом, только обществом, – ответил Лапа. – Здесь такая арена для наблюдений, с кем же поделиться впечатлениями, как не с писателем. Ах, и я когда‑то писал! Стихи писал. Потом бросил, сознав, что это бред больной души и раздражение пленной мысли. Стал изучать право и сделался письмоводителем при следователе…
Николай шел молча, тяготясь непрошеным обществом Лапы.
– Удивительно, сколь чувствительны вообще женские натуры, – продолжал без всякой последовательности Лапа, – я не говорю про почтенную супругу податного инспектора. Она превратилась бы в гору, если бы не плакала при всяком чуть – чуть удобном случае, но взгляните, например, на Елизавету Борисовну Можаеву: на ней лица нет! Взгляните на Захарову, у нее глаза красны, как сигнальные фонари. Да и муж ее огорчен, верно. Он вчера и на службе не был. Вы не знаете, что с ним?
– Он болен, простудился, – ответил Николай, – мы с ним оба были под дождем в ту страшную ночь…
– А! – протянул Лапа. – Гуляли! – и он вдруг рассмеялся. – Вы не рассердитесь! Я не над вашей прогулкой. Смешно, что сама Захарова и ее прислуга уверены, что он в отчаянье сидел запершись, а он вышел и гулял себе вволюшку.
– Откуда вы знаете, что он заперся? – грубо спросил его Николай.
– Господи, да ведь я живу у ее мамаши. Вон та чучело! Как же мне не знать‑то! И сильно промокли? – вдруг спросил он.
Николай усмехнулся.
– Теперь обсохли; что было, то прошло, – ответил он с насмешкою.
– Не пойму, чего так она убивается? – сказал словно про себя Лапа и вдруг погрузился в свою обычную спячку. Николай отошел к брату; брат любовно взял его под руку, а в это время Весенин говорил:
– В ее печали что‑то мистическое. Она, верно, очень религиозна…
Николай насторожился.
– Вы про кого говорите?
– Про Анну Ивановну, – ответил Яков, прижимая к себе его руку, а Весенин продолжал:
– Наша Вера Сергеевна очень ей сочувствует и теперь пригласила ее к нам на все лето.
– А когда вы едете? – встрепенулся Николай.
– Хотели сегодня, ну, а теперь придется отложить до завтра.
Процессия пришла на кладбище. Гроб с останками Дерунова внесли в церковь. Провожавшие меньшею частью вошли в церковь, большею – разбрелись по кладбищу.
Елизавета Борисовна под тенью огромной липы, скрытая мраморным памятником и кустами сирени, жадно схватила Анохова за руку и заговорила:
– Наконец‑то! В первый раз после этого ужаса. Если бы ты знал, как я измучилась! Ведь это не ты?
Анохов изумленно поднял плечи. Лицо ее сразу просветлело.
– Ах, как я рада! Я думала, вы встретились, заспорили. Он сказал грубость, ты вспылил… Ах, что я вытерпела! А потом, – она опять схватила его руку, – относительно их…
– Будь покойна, – ответил Анохов, – я видел Грузова (письмоводитель у нотариуса), и покойник не приносил их, ну а в бумагах я задержу их.
– Как?.. Анохов улыбнулся.
– Я внушил губернатору, что у Дерунова могут быть компрометирующие бумаги, и он по моей инициативе снесся с прокурором. При описи бумаг буду присутствовать я и, едва их замечу… – он сделал выразительный жест.
– Милый! – она быстро оглянулась и, никого не видя вокруг, на миг прильнула к груди Анохова, потом опустилась на цоколь памятника и, держа руку Анохова в своей, нежно заговорила: – Завтра мы уезжаем! И на все лето! Впрочем, я буду приезжать, помнишь, как тогда? (Анохов кивнул и улыбнулся.) Но приезжай и ты! Будем видаться хоть раз в неделю. Иначе я умру. Я не могу жить в этом сплошном обмане без твоей поддержки!
Анохов взглянул на нее с любовью.
– Подожди немного, – сказал он, – мой патрон скоро переводится в Петербург на важный пост и берет с собою меня, а я тебя!
– Скорей бы! – вздохнула она и, резко встав, сказала светским тоном: – Теперь дайте мне руку и проводите до церкви!
Анохов почтительно подал руку. В это время мимо них прошел местный прокурор Гурьев, полный господин с бритым, мясистым, добродушным лицом, в золотых очках на курносом носе. Рядом с ним, вертя острым носом, шел Казаринов. Они оба почтительно поклонились Елизавете Борисовне и пошли дальше.
– Подозрения на всех, – продолжал следователь свою речь, – и на молодого Долинина, и на Грузова, и на прислугу, – но данных мало. Лапа ищет. Он по природе сыщик, ну и я…
– Помните одно, Сергей Герасимович, – густым басом ответил Гурьев, – что это дело сенсационное. Столичная печать уже обратила на него внимание. Вот вам случай отличиться. А кстати, – перебил он себя, – кто это пишет в» Новое время»? Не этот ли Долинин, он писатель, кажется?
– Нет, не он! Это Силин, зять покойного. Он и здесь пишет. Врет больше, – ответил Казаринов.
– Врет не врет, а от этих писак исходит якобы общественное мнение. Глуп он?
– Глуп! – уверенно ответил Казаринов.
– Так вы ему через своего Лапу, что ли, внушайте соответствующие мысли. Все, знаете, приятнее и для дела полезней, а то ведь он звонит, да не в те звоны…
– Лапа отлично это сделает! – засмеялся Казаринов.
– И главное, Сергей Герасимович, опасайтесь этих арестов. А то вы всегда, черт знает, человек шесть по подозрению упрячете да месяца по четыре держите. Помните, здесь не мужики!
Тонкий нос Казаринова покраснел.
– Я всегда действую по убеждению, Виктор Андреевич, и в настоящем деле я не постесняюсь, если это будет надо.
– Ну, ну, вот вы и вспылили, – добродушно сказал Гурьев, – ведь я же для вашей пользы…
И они пошли к могиле, где уже совершался последний погребальный обряд.
В доме Деруновых все было вверх дном. В кабинете покойника, вернее, убитого, прокурор, следователь, судебный пристав и, как чиновник губернатора, Анохов производили опись бумагам. Анохов с побледневшим лицом слушал слащавый голос следователя, когда тот, держа в руках толстую пачку векселей, диктовал фамилии векселедателей и суммы долга своему Лапе и приставу. Анохов тоже заносил эти фамилии на лист бумаги, в то время как Гурьев, лежа на диване со скучающим видом, чистил ногти.
– Евстигнеев 800 рублей; Семоненко 2 тысячи 500! Пурышев…
– Черт возьми, – прервал его прокурор, – почти весь уезд был в его лапах!..
«Не скрыть, не скрыть, – с ужасом думал Анохов, – он переберет их и передаст приставу, а тот, каналья, перевяжет их и присургучит». Но его ужас сменялся то проблеском надежды, то смутным тревожным подозрением по мере чтения следователя. Пачка приходила к концу, а имени Можаева все еще не появлялось в списке.
В это же время в столовой, гостиной, зале и других комнатах прислуга завертывала бумагой люстры, канделябры, картины, надевала чехлы на мебель; в комнате Анны Ивановны в детской шла торопливая укладка.
Анна Ивановна уезжала к Можаевым на лето. Силин метался по комнатам, отдавая приказания, следя за их исполнением, забегая то в кабинет – в роли хозяина, то к сестре – в роли заботливого брата. Суетилась и Вера Сергеевна, которой хотелось как можно скорее увести своего друга дальше от печальных воспоминаний, и только сама Анна Ивановна безучастно сидела на веранде. Лицо ее осунулось и побледнело, глаза ввалились и, окруженные синевою, казались огромными. Словно Анна Ивановна перенесла тяжкую болезнь.
И она, вероятно, предпочла бы всякую болезнь, даже смертельную, этому неожиданному удару.
Человек расстался с жизнью без покаяния, не простив людям и не прощенный ими. Может быть, за час, за минуту она роптала на него и корила его; может быть, даже в тот момент, когда над ним, отцом ее Лизы, была занесена рука убийцы, она желала от него избавиться. При этой мысли нервный комок подкатывался к ее горлу, душил ее, и она вся трепетала от суеверного страха. И кто убийцы?.. В тот день на этой же веранде… так же светило солнце… из сада доносился голос Лизы, и вдруг явился он! Он! В ту самую минуту, когда она о нем думала! Как пылало его лицо, как сверкали его глаза… Разве можно забыть такое лицо? И когда он заговорил, разве не был голос его полон угрозы? Она ведь знает, как он вспыльчив, он все мог, все!.. Нет, не из‑за угла; но если они ночью встретились и он вспылил… и разве он не грозил?.. И все она!.. Изменница, клятвопреступница… Разве была она честной женою, всегда ропща и тоскуя? И вот – казнь!..
Она в изнеможении прислонила голову к высокой спинке венского кресла.
– Анна Ивановна, – на веранду вышла разгоряченная от суеты Вера Сергеевна, – я Лизино все имущество забираю. И теплое, потому что… – Но, увидев, что Анна Ивановна делает усилие улыбнуться ей сквозь слезы, она подбежала к ней и заговорила с тревогой: – Опять, опять! Душечка, милая вы моя, да когда же вы перестанете так убиваться? Ну, что с вами, что пришло опять на память? Какие грехи? – она стала подле нее на колени и гладила ее бледные руки. Анна Ивановна поборола свою тоску и улыбнулась.