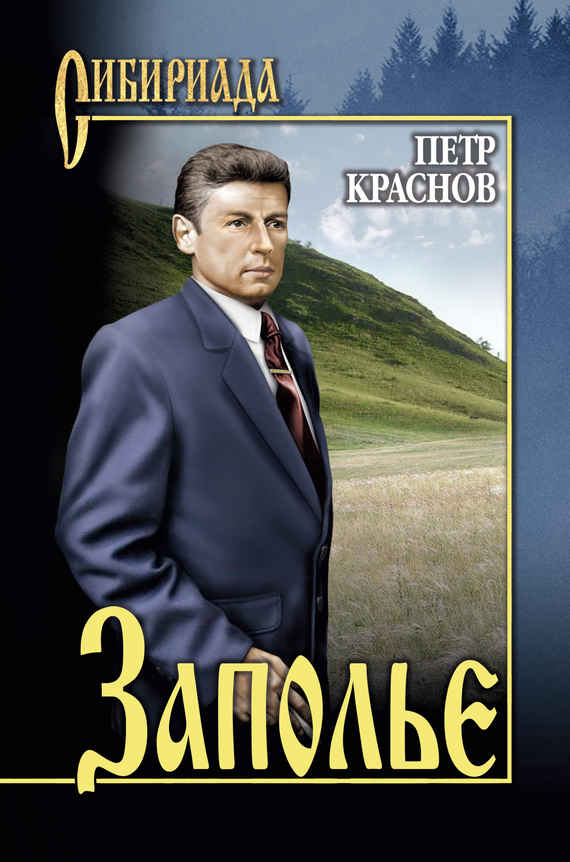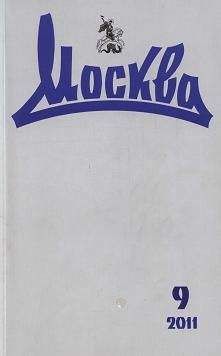мне еще, есть. И опыт страстей какой-никакой. Еще помужествуем.
— Ну, за пределы-то игры этой вам не вырваться же — как и всем, — со вздохом проговорил Базанов; и увидел, как дернулся Мизгирь, как в бешеные щелки превратились глаза его — где недвижно, серо плавилась жесткость, еще в нем не проявлявшаяся до сих пор, если не жестокость…
— Ну так я свою объявлю игру… — тяжело, как продираясь через что-то в себе, и медленно сказал наконец он, припухшие веки его не сразу, но пригасили ненависть к кому-то, спрятали. — Имею честь объявить. И право. В конце концов, я из малых сих, — я ведь прав, отстаивая свое, пусть даже ничтожное. Во мне правота слабого, рискующего самым ценным своим — да, жизнью именно самой, чтоб хоть на малость подняться над немощью своей… нет разве?
— Еще на ступеньку вверх — все той же слабости?
— А хоть бы и так. Но — изведать, себя исчерпать… Вы-таки, смотрю, неплохо устроились при мне — резонером… — усмехнулся он, отходя от этого ничем особо не вызванного, казалось, бешенства внутреннего — уж не сыгранного ли? — Слушаете себе, небось, и на ус мотаете — а?... Да, исчерпать! А то не куришь, не пьешь — здоровеньким помрешь… Я ж, если хотите, романтик — есть упоенье в бою, есть. Хотя, скажу я вам, романтизм ныне серьезен, может, как никогда… весьма даже угрюмое порой это дело. По самой ситуации черной нашей, по истории, какой каждое столетье кончается. Что, ребятишки в том октябре вокруг дома этого, белого будто бы, сгрудились под пушки танковые, сбились как волченыши защищать эту деву публичную, конституцию, — не романтики разве? А демократия эта, пусть обезьянья — нет?! И это ж начало только — и в пределах совкового моралите пока, еще не цветочки даже — бутончики, можно сказать. А вот криминал, тоже игровой, в натуре, да еще с политикой вперехлест — это уж посерьезней… От перманентной все это, похоже, нашей детскости; а детишки если и не совсем злы, то уж во всяком случае беспощадны как никто — по максимализму ребячьему, экстремизму, по незнанью ли. Насквозь эгоистична и физиология в них, и психология, все внутрь себя направлено, на нужды роста и самосохраненья — и осуди-ка их! Плевать им на отмирающее, прошлое, им нынешним жить надо, еще более завтрашним… плевать на материнское, родовое, это для них не почва даже — грунт! Вот ведь романтизма основа.
— Какая-то в самом деле, — усомнился Базанов, — уж очень физиологичная…
— А вот такая, бытие первично. Он внутренне жесток, романтизм, ему всегда тесно в рамках современности тошной, этой скопческой, да, всегда застойной морали и гнилухи-политики… ему завтрашнее подавай, чтоб все по мерке его размаха было, его запала, заодно и ветошь идеалов кое-каких перетряхнуть! Жесток, иначе он старое не заломает. Но и правота — отчасти — в том же. На поиск право. И сам человек — на пути коротком из одного мешка да в другой, безразмерный, — в цейтноте жестоком, гнусном, в тупике, считай, из установлений всяких ханжеских, где мораль — это что-то вроде прутьев решетки… как не искать?! Да хоть даже и взломать его, тупик, к чертовой матери! Взорвать!
— Да никто вас и не лишает его вроде, права на поиск, — чем-то в себе сопротивлялся Иван этому непонятному напору, малость озадаченный даже. — В незапертое ломитесь. Ищите. Но и ведь… Не пойму, чего вы добиваетесь-то от себя? Вседозволенности? Права на зло?
— На зло?! — встрепенулся Мизгирь и будто замер, на мгновенье задумался. Но только на мгновенье, замотал тяжелой головой: — Нет-нет, избавь… — И укорил: — А вы тоже хороши, чертячьи вопросы подкидывать… «не искушай» — это ведь то же «не навреди». Нет, так далеко мечты мои, к сожаленью, не заходят.
— К сожаленью?
— Да как не пожалеть о лишней — еще одной, это уж как минимум, — степени свободы, чудак человек?! Не могу не пожалеть — тем более что доступно же, руку протяни… Искус, да, — кивнул он скорее себе, чем Ивану, нечто вожделенное жуя губами, — вот же ведь жизнешка, вонючка…
— А как все-таки насчет цели? Ну, в игре вашей, объявленной?..
— А вы ж настырный! — с веселым удивленьем ли, одобрением проговорил Мизгирь, будто внове разглядывая смеющимися глазами его, ощупывая, к чему-то примериваясь. — Гляди-ка, не забыл… И считаете себя вправе спрашивать?
— Ну, в пределах дружеского, что ли…
— Нет, брат, табачок этот, боюсь, врозь…
Он замолчал, клочки бородки почесал задумчиво, пошкрябал; встал и к окну подошел — сидели они тогда в кабинетике базановском, редакционном, — глянул равнодушно на изнуренную суховеем, цепкой провинциальной пылью как патиной покрытую листву кленовую, обернулся:
— Играла мышка с кошкой… Видеть приходилось, как кошка мышку… э — э… хавает? Схрустит всю и даже помет, пардон, какашки, какие из мышки выдавятся, подлижет… какая, к черту, игра?! Какие правила?.. Необходимость жестокая — вот какие мне навязываются правила! Собой остаться необходимость… инстинкт самосохранения, только еще и в плане интеллектуальном, да, личностном. А остаться, кстати, — это совсем не значит в недвижности пребывать, как баба каменная, какую недавно в степи нашли, в газетке вашей же как-то писали… Остаться — это не статика вовсе, это динамика личности, развитие. Само-у-совершенствование — что, не цель? Борьба — с собою, со средой, и решительная. Это, знаете, как война гражданская, с повстанцами там, оппозицией: если ты, правительство, не выигрываешь решительно — ты неминуемо проигрываешь…
— Победителей в ней не бывает, кое-кто убежден…
— Еще как бывает, — упрямо и хмуро бросил, почти отрезал Мизгирь. — И победитель получает все… вместе с разрухой пусть, с могилами братскими, подпольщиной, но — все! Да они все наши войны — гражданские, если разобраться, все до единой. Было б из-за чего воевать, собачиться…
— Но нельзя ж не спросить…
— Скажите, какой он любознательный мальчик… Себя спрашивайте — себя! Здесь каждый сам спрашивает, сам и отвечает. А ответ со стороны, советы… Я ему насоветую, он жизнь на это положит, лоб расшибет, расплюется с нею, с жизнью, вдрызг, а остаток дней на меня злобиться будет, анонимки господу богу, доносы писать… так?! Так. — «Мальчик»… Непохоже было, чтобы просто его словами несло, хотя поговорить-то он любитель; от ответа уходил — о той самой