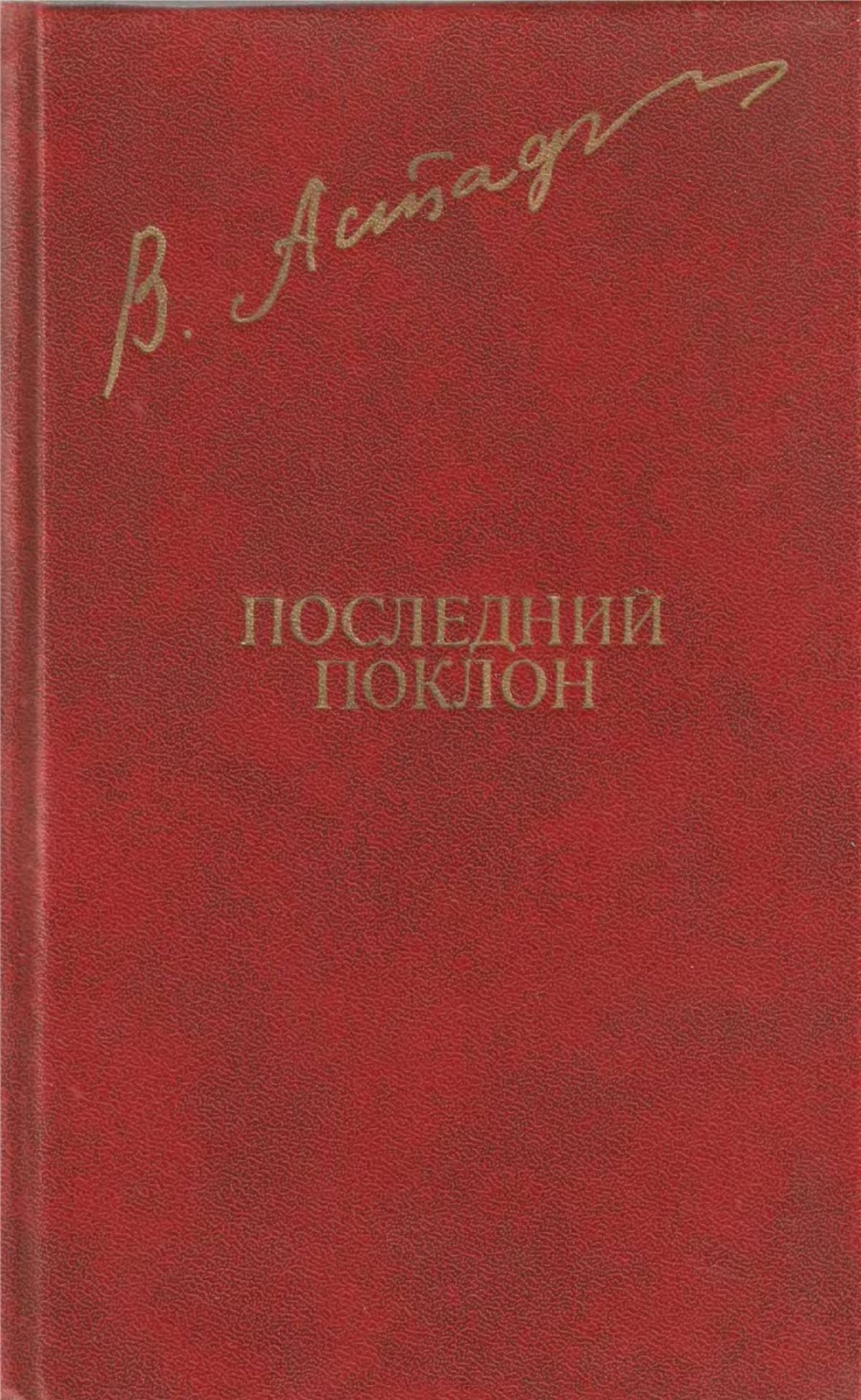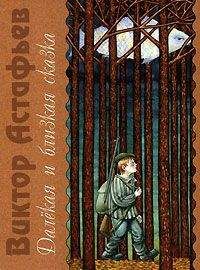нимбе седых, архангеловых вихров, метался Абросимов по просторному залу блок-поста и, не стесняясь своей помощницы — женщины из эвакуированных, складно плел охальную нечисть.
К вечеру стало мне хуже, сделалось больно глотать, кружилась голова, и тот же балабол Абросимов проводил меня на здравпункт. Размещался здравпункт в одном помещении со столовой: одна половина — столовая, другая — здравпункт. Ведал лечебным заведением молодой белобрысый парень с такими челюстями, что лицо его напоминало чугунный утюг, заканчивающийся остреньким и так далеко вынесенным подбородком, что он оттеснил все предметы лица вверх, расширив почти до ушей скобу рта, вдавив в плоскую губу висюльку недоразвитого носа. Зав. медпунктом все время щурил косенькие глазки и важно сдвигал брови, отчего кисельно морщилась дряблая кожа лба.
— Температура? — с ходу задал он вопрос и сунул мне градусник.
Здравпункт организовали наспех, в связи с восстановлением эвакуационной промышленности, и чтоб мы не мотались в Красноярск, нас тоже приписали к этому заведению, к столовке и к магазину. И везде-то на нас фыркали, и выходило, что мы только перегружаем собой «точки», мешаем планово и усердно вести дела.
— Мм-мах! Max! Max! — пошлепал губами фельдшер и с серьезной значительностью сдвинул дужки бровей: — Температуры нет, молодой человек, стало быть…
«Стало быть, вы — симулянт!» — прочел я на его лице и, пока пятился из медпункта, видел, как уничтожительно лыбится медицинское светило и поправляет, все время поправляет узелок атласного галстука, ярко сияющего в глуби бортиков халата, — первый это признак: хватается за галстук, стало быть, непривычен к нему, завязывать не умеет — выменял у эвакуированных.
Выскочив из медпункта, я храбро ругнулся и подумал, что, наверное, правду говорят путейские бабы, будто фельдшер этот снимает по три раза на день пробы в столовке, не пропустит и бабенок, тем паче девок без пробы на кухню работать, да и «помазков», которые обитают за моей стеной, не забывает, постоянно проверяет санитарное состояние их общежития, а от девок клопы тучей прут — навезли из сел клопа тощего, жадного, на деревенского мужика задом смахивающего. Девкам что? Их много. Которую и съедят — не горе, а я вот один остался, должон стеречь сундуки Миши Володькина и Пети Железкина — кинули имущество на меня, уверяя, что быстренько управятся с фюрером и вернутся…
Эх, ребята, ребята — шутники!
Ночную смену я едва дотянул и, когда пришел в вагончик, не раздеваясь, замертво упал на кровать. «Ты, машина, ты железна, — тянули за стеной «помазки», — куда милова завезла-а, о-о-х, о-о-хо-хо-хо, куда-а ми-ыло-о-о-ова завезла-а-а? Ты, маши-ы-ына, ты-ы, сви-сто-о-оочек, подай, ми-ы-ылы-ый, голосочек, о-о-х, ох-хо-хо…»
Под эту песню, жалостно думая о девках и о себе, я и уснул. Разбудила меня вокзальная уборщица, которая по совместительству обихаживала общежития. Лицо старой женщины было напугано.
— Ты че, захворал?
— Кажется. — Я еще мог говорить.
Уборщица поставила к кровати таз и собралась бежать в медпункт. Я запротестовал: «Гниду видеть не хочу!» — и попросил купить молока.
От горячего молока, которое я проталкивал в горло, точно каленый шлак, сделалось полегче, и я задремал, а старушка бренчала посудой, отыскивала поваренку, которую, говорила она, надо лизать и глотать слюну, глядя на утреннюю зарю, — как рукой снимет «болесь». Поваренки в моем хозяйстве не было, уборщица постукала кулаком в стенку, спрашивая у девок, но и у тех поваренки не оказалось, может, и была, да они послали уборщицу и меня ко всем чертям, пропади, мол, он пропадом, раз такой гордый и никого замечать не хочет.
Я и заметил бы, да стеснялся, а девки, будь одна или две, так и поощрили бы меня чем, выманили, но когда их много, они ж выдрючиваются друг перед дружкой, решетят насмешками. Да и уставали девки на работе.
Мне наконец-то «вырешили» выходной. Заходил Кузьма, спрашивал: «Может, че надо?» — «Ничего не надо». Кто-то натопил у меня печку — жарко, душно. На табуретке стояло горячее молоко в кружке, но я уже не мог его глотать.
Поздно вечером в мое жилище, как бы по своей воле, завернул фельдшер, глянул, пошлепал губами: «М-мах! Мах! Мах!», взял мою руку, нащупал пульс, и я увидел, как отваливается тракторная челюсть, раздвигаются бровки и провисает меж них кожа его лба. Хватаясь за галстук, фельдшер черкнул на бумажке закорючку, послал куда-то уборщицу, а мне сказал укоризненно:
— Что же вы, молодой человек, не являетесь на здравпункт?
Обложить бы его звонким желдорматом, но повернешь язык — ив горле угли шевелятся, рассыпаясь горячими искрами по всей утробе.
— Ладно уж, не оправдывайтесь!
В вагончик забежал дежурный по станции, встревоженно глянул на меня, на фельдшера. Медик важно взял его под ручку, склонился доброжелательно головою — ведь выучилась обезьяна где-то и у кого-то «виду».
— Немедленно! — услышал я из-за печки. — Немедленно, понимаете?!
— Где же вы раньше-то были? Сейчас только на товарняке…
— Нельзя!.. Категорически!..
И до меня дошло: я опасно заболел. А так все пустяково началось: дождичек, на спине рубашка намокла, покатался на маневрушке «с ветерком». В войну болеть нельзя. В войну больные никому не нужны — пропасть можно.
Я впал в забытье и очнулся от быстрого, заполошного шепота:
— Одевайся! Одевайся! Одевайся, скоренько!
Шатаясь, не попадая ногой в штанины, я надел железнодорожную форму, обулся в ботинки. Передо мной шаталась уборщица, плавало в тумане ее лицо с шевелящимся ртом. Стесняясь непривычной беспомощности и того, что не спит из-за меня изработанный человек, я пытался вымучить благодарствие, но старушка приказала молчать, забрякала кулаком в заборку.
— Девки! Язвило бы вас! Люди вы иль не люди? Проводите парня в город. Мне на смену.
— Подменись!
Ругая девок, уборщица набросила мне на плечи телогрейку и, бережно обняв, повела. На перроне с развернутым красным флажком стоял дежурный по станции. Я глянул на станционные часы — четверть пятого, из Владивостока шел скорый, нашу станцию он обычно пробрякивал напроход…
Мне захотелось протестовать и плакать.
Вдали яростно рявкнул «И. С.» и сжал ребра колодок. Весь поезд содрогнулся, громыхнул вагонами, задымил колесами и придержал бег. «Что у вас?» — знаком спрашивал помощник машиниста с грязным и недовольным лицом. Сворачивая флажок, дежурный по станции указал на меня, помощник растопырил пять пальцев — и меня тут же втолкнули в медленно катящийся вагон с единственным во всем поезде открытым тамбуром.
Это был мягкий вагон. Все двери купе в нем плотно закрыты, ворсистая дорожка, расстеленная в коридоре, глушила шаги.
— Вот здесь садись, — участливо прошептала проводница и откинула мягкую скамейку от стены. — Че, заболел? — Я