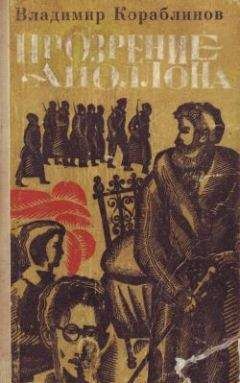Да-с, вот видите, молодой человек, какие дела-то… Отобрал я из княжеской коллекции несколько вещей. Отличный Жерико – бегущая лошадка, Делякруа – мальчик в красной феске… Ну, Рокотов, Боровиковский – прелесть, чудо! Все это, разумеется, превосходно, но мы-то, старые крутогорцы, мы-то ведь и о княжеском Рембрандте были отлично наслышаны. И даже какими судьбами несравненная эта вещица попала в богоспасаемый город наш – и это, представьте себе, знали еще с гимназических лет. История эта тоже, надо полагать, будет вам небезынтересна, но о ней когда-нибудь после… Да-с, так вот. Верчу, знаете ли, головой туда-сюда, заглядываю в шкафы, в горки, в бюро – нет как нет, словно сквозь землю провалился Рембрандт! Старичок же мой, видя, что я уже, оставив картины, принялся по укладкам шарить, этак деликатнейше намекает, что какие же, дескать, могут быть картины в укладках-то? «Или, – говорит, – вас, государь мой, еще что и помимо картин интересует?» Нуте-с, выкладываю ему прямо, без обиняков, что именно ищу; про медный ларчик рассказываю, в коем сия крохотная картинка, – где, мол, она? Вижу, нахмурился старикан, этак презрительно поджал губы, отвернулся. «Не могу знать, – отвечает, – ищите». Чувствую, что спрятано где-то сокровище, а где? Дом велик, старинной постройки домище, надо думать, и тайнички имеются. «Да вы, – говорю, – родной мой, не запирайтесь, скажите… Не для себя ведь, для всего русского народа прошу!» Молчит, пожимает плечами да уж и вовсе как-то отвернулся, словно магической чертой отгородился от меня. Да, да, интереснейший случай, знаете… ну, просто, знаете ли, роман… Что?
Это рассеянное «что?» Денис Денисыч пустил куда-то в пространство, ни к кому не обращаясь, нежно поглаживая рукою ту черную тетрадь, которую захлопнул при появлении Ляндреса. Он далеко сейчас пребывал, в том дивном мире, что скрывался под клеенчатой обложкой. (Там смуглый молодой грек Дионисий писал узколицую богородицу для первой русской церкви… Да, да, кто же спорит, греческие изографы написали первые русские образа, но был же ведь и первый русский художник! И так ярко, так живо предстал в воображений некий юноша, чертящий на речном песке те странные лики, какие никто не видел, лишь он один… Конечно, конечно, его рукою была написана первая русская мадонна!)
– Ну? – не выдержал Ефим. – Нашли же ведь все-таки! Где? Как?
– Простите, – сказал Денис Денисыч. – Одну минуту…
Он отогнул краешек клеенчатой обложки и меленько записал: «Первый рус. худож.». И засмеялся счастливо.
– Нет, представьте себе, – сказал, обернувшись к Ляндресу, – так-таки и не нашел!
– Но как же…
– А вот слушайте. Дня через два иду на работу, гляжу – у ворот музея княжеский старикан. «Мое почтение, – говорю, – вы ко мне с какими-нибудь претензиями?» – «Нет, – отвечает, – какие претензии. Идемте». И пошли мы с ним в княжеский сад, и вручил он мне лопату и велел копать под досками пола старой, почти развалившейся беседки, и там…
– Ах, здрасьте-пожалсте! – подпрыгнул Ефим. – Так ведь это же целая поэма!
– Именно, – сказал Денис Денисыч. – Вот вы и опишите, как был освобожден Рембрандт. И как старый слуга предал его сиятельство во имя…
– …ее величества Революции! – со смехом докончил Ляндрес. И, как была уже половина четвертого, наскоро распрощался с Легеней и побежал к театральной студии.
Утреннее сияние померкло, синее небо затягивалось туманной наволочью. Но жизнь все равно казалась бесконечным праздником. В лохматой голове клокотали, кипели еще не сложенные стихи; утлая коробка черепа едва сдерживала штормовые валы слов, образов, мелодий. Они накатывались на бурно пульсирующие виски; грозили, сломав, уничтожив хрупкую костяную преграду, выхлестнуть наружу, затопить все к чертовой матери, искрящимся гребнем волны прянуть в небо и спустя мгновение рухнуть к ногам любимой… и умереть от счастья!
В непомерно головастой оболочке тела метался, безумно бредил одержимый поэзией Ляндрес. Но в этой же оболочке неусыпно бодрствовал другой Ляндрес, Ляндрес-двойник, коммунист, член РКП с января восемнадцатого года. Этот последний призвал к порядку расходившегося поэта, велел шагать смирно, без глупостей.
Но недоглядел все-таки. И сырой, туманный мартовский воздух был сотрясен строчкой поэтического бреда:
Весна – Революция – Рита…
За это готов умереть!
Они расстались у последних деревьев Ботанического сада. В зыбкую стену промозглой хмари уходила Рита…
Навсегда!
Ах, дурак… ах, кривляка! Ну, зачем, зачем сказал он эти пошлейшие слова! Ведь как все хорошо, как все просто было, по-товарищески, как-то по-мальчишески даже. Мало тебе, идиоту, показалось бесплотной мечты? Захотелось чего-то такого, что уже за чертой обыкновенной жизни, обыкновенных будничных отношений?
Тощая плоть заговорила… Ай-яй-яй!
Бывало, провожая ее к институту, долгой дорогой стихи читал, острил, гримасничал, выкидывал всякие штучки, и она смеялась с милой хрипотцой, махала руками, изнемогая: «Ой, Фимушка, милый! Ой, уморил!» Ее легко было смешить, но Ляндресовы стихи принимала довольно равнодушно, судила прямо, резко. Большею частью они ей не нравились, она говорила: «Господи, ну чего фокусничаешь? Просто, просто надо писать, вот так…» И читала:
Выхожу один я на дорогу,
Предо мной кремнистый путь блестит…
– Не предо мной, а сквозь туман, – мрачно поправлял Ляндрес.
– Ну, это неважно, главное – просто и хорошо. А ты все про трубы, про пожары какие-то…
…Ляндрес смотрел, как уходила Рита.
Напрягая зрение до боли, видел: тает, тает в тумане. Уже и не Рита как бы, а смутное пятнышко без очертаний. И вот наконец вовсе растаяла, исчезла.
Он тяжело, двойным, тройным трудным вздохом вздохнул и, поворотясь, медленно побрел назад, в город.
Ах, зачем сказал!
Изнемогая от груза потаенных, невыговоренных чувств, шел в тумане, плохо разбирая дорогу, не ощущая ни пространства, ни времени. Бессвязные обрывки слов, образов, жестов, как в сонном видении, сменялись, перемещались, раскиданные прихотливо, не подчиненные какой-либо мысли. Пустая телесная оболочка шлепала по гнилой дороге, и не было в ней ни Ляндреса-поэта, ни Ляндреса-партийца, а лишь только подобие человека. Человек этот был потерян и несчастен. В смутном потоке сознания угадывалось одно: вчера еще такое яркое, отчетливое, а сейчас расплывчатое от слез и туманное – Рита.
Рита. Рита… Рита!
Это произошло возле голубых елей. Рита оступилась, попала ногой в промоину, зачерпнула в сапог воды. Опершись на плечо Ляндреса, прыгала на одной ноге, вытряхивала из сапога мокрое ледяное крошево. Хохотала, чертыхалась – ей все было нипочем.
– Ну, вот и все, кажется, – сказала, притопывая, согревая ногу в мокром сапоге.
Ах, как он любил ее в эти минуты! Как сладко было чувствовать на слабом своем плече дивную тяжесть крепкого жаркого девичьего тела… И он прошептал:
– Я люблю тебя, Рита…
И сразу же понял, что все кончено, что пропал: Ритина рука соскользнула с его плеча, он перестал ощущать ее пленительную тяжесть. И тогда она сказала:
– Черт знает, что выдумываешь! Какие пошлости.
Боже мой, каким ровным, каким будничным голосом это было сказано! Если б хоть чуточку гнева, чуточку насмешки… Нет! Так говорят: «Послушай, закрой форточку» или: «Перестань свистеть, надоело…»
И дальше, пока не кончился сад, пока среди деревьев не завиднелось поле, шли молча. И растерявшийся Ляндрес действительно засвистел что-то, и Рита действительно сказала:
– Перестань свистеть.
…Шел несчастный Ляндрес в печальном сумраке и плакал, ничего не видя и не слыша. И так дошел до железной дороги, до переезда, за которым начинался город. И только тут вспомнил об утренней ссоре с домашними и твердо решил, что домой идти невозможно, что придется ночевать на редакционных столах. «Ну, на столах, так на столах», – пробормотал он. И, сообразив, что партийному человеку не годится этак, у всех на виду, распускать сопли, вытер кепкой мокрое от слез лицо и твердо, решительно стуча каблуками, зашагал в редакцию.
А у Коринских был гость.
За столом сидел грязный, заросший бурой щетиной незнакомый и, как с первого взгляда показалось Рите, неприятный, жестокий человек и, двигая ушами, жадно пожирал вареную картошку. Когда вошла Рита, он перестал есть, но его крупные скулы продолжали шевелиться.
– Ну, вот и Ритуся, – сладко сказала Агния Николаевна. – Ты видел ее еще девочкой… Дядя Ипполит, – махнула она ручкой, обратясь к дочери.
Дядя Ипполит довольно ловко выскочил из-за стола, по-военному прищелкнул каблуками, наклонился и, уколов щетиной, чмокнул Ритину щечку. От него противно пахло заношенным бельем, табачищем и еще чем-то кисловатым, похожим на то, как пахнут днища давно не проветриваемых сундуков.
Из домашних разговоров Рита знала, что где-то в Петербурге существует какой-то дядя Ипполит, гвардейский офицер и щеголь, покоритель дамских сердец. С его именем в Ритином воображении всегда возникал образ довольно опереточный: гусарский ментик, лакированные сапоги, белые лосины и масса золота на мундире – нашивки, ордена, аксельбанты. И, разумеется, этакий гвардейский говорок: э-э… ска-и-те… га-уб-чик…