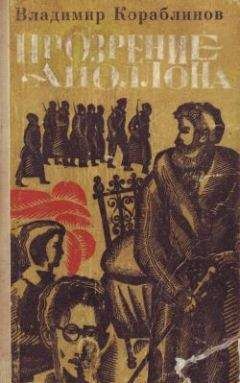«Ой, мамочка! – огорченно подумал Ефим. – Одно из двух: или эти бородатые дядьки и скоромные дамочки – сплошная реакционная мура и затемнение мозгов трудящихся, или я – болван и неуч, которому еще учиться да учиться… Эх, вот бы у Ритки спросить!»
Маленький и, как ему казалось, ничтожный и одинокий, стоял он перед этими дюжими святыми бородачами и надменными красавицами, словно бы оглушенный, подавленный телесною крепостью изображенных на картинах странных, никогда не виденных людей, словно бы сквозь сон слышал восторженное бормотание Легени:
– Ах, вот это, взгляните!.. Или вот еще… Нет, дорогой мой, вы только обратите внимание на это плечо, как дьявольски смело выхвачено оно из черноты!
И сыпал звучными незнакомыми именами: Рибейра, Эль-Греко, Сальватор Роза, Тьеполо…
«Ай-яй-яй! – сокрушался Ляндрес. – Хоть бы одна знакомая фамилия!»
– Кисти Виже-Лебрен, – сказал Денис Денисыч, указывая на портрет какого-то сердитого старика в зеленом мундире с огромным, расшитым золотом красным воротником.
– Он что же – русский? – спросил Ляндрес.
– Вы кого имеете в виду?
– Ну, художник… У нас в городе тоже ведь есть Лебрен. Режиссер. Слышали?
– А, вон что! – Денис Денисыч улыбнулся. – Нет, это француженка. Она, Элизабет Луиз. Некоторое время, в конце восемнадцатого века, жила в России, бежала от французской революции.
– Что-о?! – завопил Ляндрес. – Эмигрантка? И тоже – представляет собою ценность?
– М-м… Как вам сказать? Салонный портрет. Техника, конечно, блестящая. Но особой художественной ценности не представляет. Без божества, без вдохновенья, так сказать…
– Да ведь еще и эмигрантка к тому же, – напомнил Ефим. – Контра. Это, товарищ Легеня, тоже следует принять во внимание.
– Контра? – Веселые морщинки разбежались по строгому лицу. – Ну, конечно, вы правы. Роялистка до мозга костей.
«Ай-яй-яй! – опять огорчился Ляндрес. – Ро-я-лист-ка… А я – словно в лужу: контра! Нехорошо. Неинтеллигентно. Недостаток общей культуры… Эти чертовы частные гимназии!»
– Ну-с, – сказал Денис Денисыч, останавливаясь перед небольшим ларчиком. – Вот теперь-то мы с вами и пришли к самому замечательному…
Крохотным ключиком щелкнул в замочной щели, распахнул золоченые створки. В таинственной глубине чернела картинка величиной с ученическую тетрадь. Из коричневато-зеленого сумрака сияло нежное лицо молодой женщины. Склонясь над спящим младенцем, она улыбалась. Седобородый старик стоял за ее спиною, опирался на посох Он стушевывался в глубокой тени, разглядывался не сразу. А за ним, совсем уж в пещерной черноте, лежали козы. На выгнутых рогах иных мерцал золотистый отсвет. Но ни лампады, ни факела: источником света был младенец.
– Рембрандт…
Денис Денисыч сказал благоговейно, приглушенно. И даже руки сложил ладонь к ладони, как бы в молитвенном восторге.
«Об этом человеке я не статью – поэму трахну!» – восторженно подумал Ляндрес.
Потом они сидели внизу, в той захламленной комнате, где произошла их встреча. На печке-буржуйке простуженным голосом сипло пел чайник. Обжигаясь, пили мутноватую, заваренную мятой воду, и Денис Денисыч рассказывал о музее – как создавался. Из ничего. Буквально по крупицам. Стараниями, бескорыстным трудом двух-трех энтузиастов. Упомянул несколько фамилий и сказал:
– Вот о них обязательно напишите.
– Эти товарищи сейчас в Крутогорске? – поинтересовался Ляндрес.
– В могиле, – строго сказал Денис Денисыч. – Тиф. Голод. Один (он назвал фамилию) от шальной пули погиб, когда анархисты хулиганили. Но вот что я вам хочу сказать, молодой человек… История создания музея, это, конечно, важно, об этом стоит вспомнить, смотрите только, чтоб не получилось сухо, как этакий, знаете, официальный отчет…
Ефим чуточку обиделся.
– Да уж постараюсь, – смущенно пробормотал. – Такой замечательный очаг культуры… картины и все такое…
– Вот именно, насчет очага-то. Тут, знаете, в будущей статье вашей такую мысль необходимо высказать: Рембрандт, освобожденный Революцией. Понимаете? Ведь от всего мира был скрыт, замурован, даже погребен в земле…
– То есть как в земле? В каком смысле?
– А в самом буквальном. Эта дивная картинка считалась утерянной. Она, конечно, значилась в числе работ великого голландца, но с пометкой «местонахождение неизвестно». Послушайте, – золотые очки сверкнули, взлетели на лоб, – у вас есть время?
Ефим вспомнил о Рите: до четырех еще два часа оставалось.
– Времени – вагон! – сказал да и спохватился: в музейной обстановке жаргончик был явно неуместен.
– Ну, если вагон, – улыбнулся Денис Денисыч, – тогда извольте слушать. На вашем месте я бы не статью о музее, а вот такой рассказ написал…
ОСВОБОЖДЕНИЕ РЕМБРАНДТА
Война захватила князя Щербину-Щербинского в Мадриде. Он был одним из тех сиятельных бездельников, для которых понятие отечества, Родины было очень туманно, а верней сказать, просто не существовало. Франция, Испания, Швейцария с их курортами и развлечениями – вот что заменяло ему отечество. Даже вздорное княжество Монакское, крохотное государство игроков и шалопаев всего мира, и то было роднее и ближе князю Ростиславу, чем далекая Россия, ее природа, ее избы и мужики, о которых он с детства усвоил одно лишь – что они невежественны и дурно пахнут овчиной и дегтем.
Его род был богат и знатен. Когда-то князья Щербины-Щербинские стояли «в челе России», как говаривали в старину, то есть водили рати, сидели в государевой думе или ехали воеводствовать в богатые большие города. Еще при Екатерине один из Щербинских был довольно влиятельным лицом в государстве. С этим екатерининским вельможей и угасла государственная деятельность знаменитого рода; за сотню лет Щербины-Щербинские измельчали и выродились. В память о прошлом величии остались одни лишь грамоты, предания да портретная галерея – от безыменных «парсун» до великолепных Рокотова и Боровиковского: важные, надменные господа в густо напудренных париках и расшитых, усыпанных алмазами и орденами мундирах. Одним несметным богатством держалась слава неудалых потомков. Но, как денежного богатства, земель и мужиков было множество, – оно, богатство это, и возмещало нищету талантов, и хотя Щербинские девятнадцатого и двадцатого веков в государственных мужах не ходили, все равно фамилия их была знаменита, а жизнь протекала в бездействии и излишнем довольстве.
Итак, последний в роде, князь Ростислав, жил в Мадриде. Там он занимался иногда приятным, а иногда утомительным ничегонеделанием, аккуратно получая из российских поместий немалые деньги, выручаемые от земельных арендаторов и продажи лесов и сенокосных угодий. В губернском городе Крутогорске у него был большой старый дом, куда он наезжал раз в пять-шесть лет. В этом-то доме и береглись в течение без малого двух веков семейные родовые ценности Щербинских: портреты, грамоты, дарственные сервизы, табакерки и прочая памятная дребедень. Среди всего этого дорогого фамильного хлама хранилось несколько хороших картин русских и иностранных мастеров конца восемнадцатого и первой половины девятнадцатого века, таких, как Делякруа, Жерико, Коро, Брюллов, Кипренский, Венецианов. Об этой картинной галерее в городе знали отлично, и когда княжеский особняк в восемнадцатом объявили собственностью народа, туда направился один из сотрудников музея – осмотреть картины и вещи и отобрать наиболее ценное, чтобы включить в экспозицию. Этим сотрудником был Денис Денисыч Легеня.
– Я пришел туда, – рассказывал он Ляндресу, – когда в доме уже успели побывать какие-то темные личности. Верней всего, это были просто-напросто ворюги, бандиты, хотя встретившему их старику домоуправителю (единственному, кстати, из княжеской прислуги, не покинувшему дом) они назвались «комиссарами Советской власти». Полагаю, что были эти самозванцы пьяны в стельку, иначе зачем бы им понадобилось так дико и бессмысленно портить вещи? А они вдребезги расколотили огромные зеркала и выломали клавиши в дорогом блютнеровском рояле.
Нуте-с, пришел я. Все тот же старичок (его звали Александр Романыч Ловягин, это имя и в акте зафиксировано) встретил меня, как, вероятно, сами догадываетесь, без особого восторга. А когда я предъявил ему мандат, усмехнулся, знаете, этак, с откровенной ехидцей и сказал: «Что ж, сударь, ежели обратно зеркала бить пожаловали, так опоздали – все уже ваши комиссары перебили…» Я, разумеется, не понял, какие зеркала? Какие комиссары? «В чем, говорю, почтеннейший, дело? Объяснитесь». Ну-с, он мне и рассказал. «Черт возьми, – думаю, – может, эти авантюристы и картины погубили…» Спрашиваю старичка. «Нет, – отвечает, – картины, благодарение господу, не тронули. Золотишко какое, серебро столовое – это, действительно, уволокли, а картинами – нет, не интересовались». – «Ну, – говорю, – дорогой товарищ, ведите меня, показывайте, где картины». – «Так вы, стало быть, насчет картин соображаете? Как же, мол, резать их или в печке жечь будете?» Объясняю ему – с какой целью пришел, про музей толкую, что картины там, дескать, еще сохраннее будут. Нет, вижу, не верит ни на копейку. «Что ж, – говорит, – ваша власть, берите…»