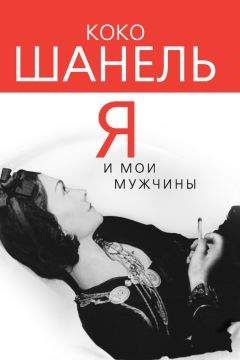Словно пародируя пыжикового мужчину, и я глянул начасы: ужин не состоялся, теперь бы не пропустить рейс. Пародия продолжалась: я двинулся накухню, пошарил в аптечке, нашел седуксен, элениум, накапал в рюмочку валокордина, -все это втиснул, влил в дашенькин рот, вру, не все: добрую половину жидкости оставил темным пятном наподушке, -- затем нацарапал коротенькую записку, что, мол, не переживай, не расстраивайся, как-нибудь наладится, утрясется, из Тбилиси, мол, позвоню, подхватил кофр, погасил свет и бегом направился к метро.
В вагоне, качающемся настыках, я, опаздывая, нервничал от невозможности ускорить его бег и в поисках, чем бы заняться, отвлечься, наткнулся надавешний Мышкинский конверт. Аккуратно, со школьным наклоном написанное, видать, перебеленное с исчерканного вдоль-поперек черновика, письмо изобиловало оборотами высокого штиля, оговорками типа: я боюсь, что Вы меня здесь неверно истолкуете, я имел в виду, чтою и Вам, конечно, все это покажется смешным, но яю и содержало приглашение кю дуэли. Не больше и не меньше! Я не знаю, писал Мышкин, я, честное слово, просто не знаю, как еще можно наказать Вас (Вы -повсюду с заглавной буквы) заВаши подлость, разврат и безнравственность, зато, что Вы топчете грязными своими подошвами все, что есть еще святого у человека, -- не бить же Вас, не подкарауливать в темном переулке, тем более что Вы крупнее меня телом, не в милицию же обращаться и не в газету ЫКомсомольская правдаы, но если в Вас осталась хоть капля совести, хоть след того, что прежде считалось Вашей совестью, если былау Вас в детстве мать, вы, конечно, примете мое предложение, ибо не сможете не осознать, в какую бездную -- и так далее; я, правда, не совсем уловил заобщими патетическими местами, каков же, собственно, повод для вызова: тот ли, что я спал с невестою юного бретера, тот ли, что с матерью невесты, тот ли, что интриговал, чтобы ни его, ни невесту не допустить до дяди Нолика, -- может, и тот, и другой, и третий вместе. В конце же письмаподробно, запутанно и тоже все в оговорках шло описание условий дуэли: решит жребий, ни один из нас не должен подвергнуться опасности обвинения в убийстве; тот, накого жребий падет, должен покончить собою любым способом; жребием же, чтобы не встречаться со мною лишний раз, чтобы исключить возможность подлогаи надувательства, ибо от такого человека, как я, можно ждать любой подлости, -- жребием же пускай будет четное или нечетное число букв Ыоы в верхней левой колонке первой полосы завтрашней (то есть, уже сегодняшней, заметил я про себя) газеты ЫL`Humanitйы, не учитывая заголовкаи надстрочных значков (у них в училище, видимо, преподают аристократический французский!); газету ЫL`Humanitйы он выбрал не из пижонства, как я могу подумать, аисключительно, чтобы у меня, человека, как мы уже выяснили, бесчестного, не возникло подозрения в передержке и чтобы и я сам натакую передержку не пошел, потому что соблазн велик, анаколичество букв в любой советской центральной газете заночь повлиять можно. Можно, конечно, повлиять и наЫL`Humanitйы, но это ужею -- и сновадлинный абзац отступлений и подробнейших оговорок, почему велик соблазн, и почему повлиять наЫL`Humanitйы застоль короткий срок значительно сложнее, чем налюбую советскую центральную газету, и еще почему именно нацентральную. Единственно, о чем Мышкин забыл упомянуть в столь развернутой картели -- это кому из нас смертным приговором явился бы нечет, кому -- чет.
Мне очень понравилось письмо, я даже поймал себя нанепроизвольной улыбке: симпатия, которую вызвал во мне Мышкин еще сквозь полупрозрачное стекло спаленной дашенькиной двери, подтвердилась и углубилась; я вспомнил себя лет пятнадцать-двадцать назад, вспомнил, как, обиженный кем-то (суть обиды и лицо обидчикауже позабылись), не спал ночей и тоже думал именно о дуэли: единственно возможном способе восстановить мировую справедливость; правда, до картели у меня дело не дошло, но неизвестно, в мою ли пользу говорит, что не дошло. Погруженный в теплые ностальгические воспоминания, я чуть было не пропустил ЫДинамоы, выскочил, побежал по эскалатору: регистрация заканчивалась вот-вот.
Я уже стоял забарьером, обшаренный милицейскими миноискателями, как тревогасновапосетиламеня: вдруг Мышкин, мне забыв написать, сам-то для себя твердо назначил, чет или нечет -- невероятно, авдруг?! -- и сейчас этот несчастный нечет выпал как раз нанего, и он прилаживает петлю к потолку общежитской комнатки, душевой или сортира, оставив научебнике ЫИстория КПССы записку: юникого не винитью или покупает в табачном ларьке безопасное лезвие! Я, вспять народу, двинувшемуся как раз напосадку в автобус, рванулся к выходу, что-то невнятно, но крайне эмоционально попытался объяснить милиционеру и дежурной и, так, разумеется, и не объяснив, попросту оттолкнул их и со всех ног припустил к автомату.
По нему болталатолстая тетка; еще двое девушек, парень и неопределенного возрастаузбек в засаленном халате ждали очереди. Я нервно топтался наместе, словно умирал-хотел в туалет -- юав ЫВеснеы давали югославские, по восемьдесят пятью -- топтался, поглядывая в сторону своей секции, в которую закрывали уже двери -- юаиндийское постельное белье по двадцать пять давали в новобрачных, но там -- по талонамю -- топтался и, наконец, не выдержав, нахально нажал нарычаг. Видно, тревогаотпечатлелась намоем лице, ибо тетка, как толстаи самодовольнани была, не сказалани слова, протянулатрубку; смолчалаи очередь. Я набрал ксюшин номер: ответили, и, торопясь, но, тем не менее, в обычном ироническом, с подъ..кою, тоне затараторил: эти ваши шуточки с дуэльюю Ксения истерично прервала: оставьте, оставьте обаменя в покое! мне не нужен ни-кто! и явно собралась трубку бросить, и тогдая заорал, откинув к чертям и иронию, и подъ..ку: дура, заорал, помолчи! твой мальчик может кончить самоубийством! слышишь? са-мо-у-бий-ством! не спускай с него глаз, дура!
По паузе, которая звучалав телефоне, я понял: Ксения пришлав себя и слушает, и тогдауже тише, спокойнее произнес: и съезди к матери. Ей, кажется, плохою не оставляй одну... в таком состоянии -- произнес и едване прыснул, потому что в третий раз невольно спародировал пыжикового приглашателя: прощальную его фразу, адресованную мне.
Наавтобус я успел и уже через пять часов был в Тбилиси. 6 Аристотелевы рецепты, соображения элементарного правдоподобия должны бы заставить меня раскидать участников моей истории в разные стороны: Мышкина, скажем, отчислить из училищаи, выписав из Москвы, отправить домой, в провинцию; Геру, положив напару месяцев в какой-нибудь специализирующийся по нервным расстройствам санаторий, отдать под надзор родителей; Ксению -- чего проще! -- сделать терапевтом или, допустим, эндокринологомю Одну Дашеньку пришлось бы, пожалуй, тудаи поместить, где онаочутилась. Но я, по размышлении, все-таки отвергаю эти рецепты и соображения и следую заневероятной, неправдоподобной правдою, поступая так не только потому, что не решаюсь нарушить избранный мною в начале повествования принцип документальности, но и потому еще, что улавливаю в этом неправдоподобии правды некую характерную психопатическую черточку внешне нормального, занудного, как юнины вечера, нашего времени и жалею ее упустить.
Они все четверо оказались в одном сумасшедшем доме, точнее -- в сумасшедшем поселке, сумасшедшем городке, ибо психиатричканаулице Бехтерева, неподалеку от метро ЫКаширскаяы, печально известного своим Блохинвальдом -психиатричкаэтасостоит из доброго десяткакорпусов и занимает целый квартал; квартал обнесен глухим забором, снабженным массивными металлическими задвижными воротами нарельсах: воротами вроде тюремных или почтового ящика. Все четверо: Ксения в качестве врача-интерна, прочие -- чистыми пациентами.
ДашазагремеланаКаширку, покая еще был в Тбилиси: перипетии я узнавал отчасти актуально -- из многочисленных междугородных звонков, которыми не оставлял Ксению всю командировку, отчасти -- ретроспективно. В тот вечер, двадцать второго, в вечер несостоявшегося ужина, Ксения, встревоженная телефонным моим сообщением, разыскалаМышкина, с горячечным возбуждением считающего и пересчитывающего под фонарем у общежития литеры Ыоы в передовице последней ЫL`Humanitйы, и, так и не добившись разумных объяснений относительно смысластранного этого занятия и потому не отпустив Мышкинаот себя, погналанатакси к матери. Вовремя: вместо ожидаемой пустой кабины, которую они вызвали, раздвинувшиеся лифтовые двери явили молодым людям Дашеньку, совершенно голую, в одних только золотых туфельках натолстом высоком каблуке и с ключами от машины напальчике: я самаю я и самакак-нибудь доберусью подумаешью Валькау меня еще попляшетю самозванка, фарцовщицаю Тушинская воровкаю Бог знает, сколько им сил понадобилось, чтобы водворить Дашеньку домой; около нее, конечно, следовало бы дежурить круглосуточно, но в случившемся позже Ксению я не виню: онаведь, по сути, осталась одна, без помощников: при Мышкине и при самом требовалось дежурство, ибо мрачная скрытность и неясные угрожающие намеки женихадавали врачишке довольно поводов для опасения. Словом, так или иначе, атри дня спустя Дашенькаускользнулаиз-под недостаточно тотального родственного надзораи -- насей раз Конторою -былазадержанапри попытке продефилировать по Красной площади nue, и тут уж, естественно, больницы стало не избежать, хорошо еще -- не тюремного типа.