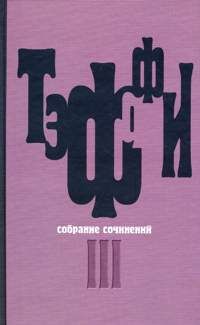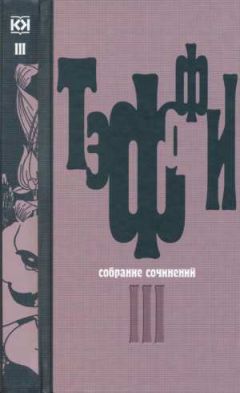— Не женщина, а какая-то птичья дура.
Вошел и остановился.
На ковре сидел Эрбель, а на диване Зоя. Эрбель положил голову ей на колени и обеими руками обнимал ее за талию.
— Пожалуйста, не стесняйтесь, — спокойно сказал Ермилов. — Простите, что помешал.
Повернулся и вышел.
Вышел и пошел к Анне.
И всю дорогу старался вспомнить, где это он слышал эту гордую и благородную фразу, которую только что с таким шиком произнес.
Но так и не вспомнил.
Был обычный парижский воскресный день начала лета.
Ни жарко, ни холодно.
Как всегда, парижский плебс понесся по всем дорогам и всеми способами — в трамваях, автобусах, автомобилях и по железным дорогам — вон из города.
Василий Петрович Капов вывел Татьяну Николаевну Рыбину на прогулку.
Он — высокий, худощавый, тусклой окраски, молчаливый, любит, стиснув зубы, шевелить желваками скул.
Она — плотненькая, не чересчур молодая, окраски произвольной золотистой. Выражение лица обиженное.
Идут.
1. Её прогулка
Ужасный день!
Что может быть отвратительнее парижского воскресенья!
От реки дует. Дует, может быть, и в будний день, но тогда это не так заметно. В будний день Татьяна Николаевна бежит на службу или со службы, спешит, торопится — до погоды ли ей. А сегодня, в воскресенье, когда она на улице, так сказать, для собственного удовольствия, эта отвратительная погода раздражает и злит.
Солнце светит — неприятно светит. Сеет на носы веснушки и больше ничего. И ветер. И иди как дура и радуйся.
И что это за манера непременно идти гулять. Следовало бы хоть немножко считаться с ее вкусами. Ну как не понять, что ей хочется в синема. Она, конечно, человек деликатный и прямо этого высказать не может. Во-первых, потому, что, может быть, у него мало денег, а во-вторых, это слишком явно покажет, что ей с ним скучно, что говорить с ним не о чем и что он ей надоел, а если он это поймет, конечно, сейчас же начнутся упреки и трагедии, появится какой-нибудь ржавый револьвер, как у Ивана Николаевича, и будет он вертеть этим револьвером то перед своим, то перед ее носом. Что может быть хуже истерических мужчин! А он — истерик. Он именно из тех, которые с особенным смаком терзаются. С ним надо быть осторожной.
Скучно гулять. Но все же лучше, чем сидеть в крошечной комнатушке и от нечего делать полировать себе ногти, а он будет курить или шлепать пасьянс. О-о-о! И за что! За что весь этот ужас?
Она остановилась на мосту и долго смотрела через перила, как бежит и кружится вода.
— Пойдем, — сказал он. — Не надо так смотреть.
Он как будто что-то понял. Неужели он догадывается? Надо быть осторожной. У него какой-то странно напряженный взгляд. И за что он так безумно полюбил ее?
Ну что ж, она с своей стороны делает все, что может. Вот сейчас, в воскресенье, вместо того, чтобы пойти к Варе Валиковой, у которой, наверное, собрался народ (Господи! ведь все веселее этой идиотской прогулки), — она должна тащиться, как коза на веревке, за этим врожденным самоубийцей.
— Может быть, зайдем в кафе? — спрашивает он.
— Нет, мерси, — отвечает она. — Лучше погуляем.
Зайти в кафе — это значит сидеть в душной, пропахшей табаком и пивом атмосфере, смотреть, как играют в беллот добродетельные мелкие буржуа, а их жены сидят рядом и тупо засматривают им в карты. А ее кавалер заведет тягучий разговор, абсолютно ей не интересный.
Сказать бы ему прямо:
— Я знаю, я верю, что вы любите меня, но я-то, я-то вас не люблю. Поймите это и оставьте меня, без трагедии и без смертей.
Вот они переходят через улицу, и он взял ее под руку.
«Он ищет случая дотронуться до меня, — думает она с отвращением. — Как ужасна эта примитивная страсть!»
— Может быть, вы хотите пойти в синема? — вдруг спрашивает он, и она видит на его лице странное выражение не то мольбы, не то отчаяния.
Вероятно, он хочет доставить ей удовольствие и боится, что она согласится, потому что это будет значить, что ей скучно с ним и говорить не о чем.
— Нет, — говорит она, — я с удовольствием пройдусь еще немного. А в синема нельзя ни видеть друг друга, ни разговаривать.
Вот! Больше жертвовать собою, чем она жертвует, уже невозможно. И все из жалости, все из страха как бы этот слюнявый неврастеник, выродок, провались он пропадом, не покончил с собой.
Надо бы поговорить о чем-нибудь.
— Посмотрите, какой милый песик бежит, — сказала она, страдальчески улыбнувшись.
— Н-да, — отвечал он. — Бежит, чего ему делается.
Она поняла, что ему неприятен этот пустой разговор о песиках.
«Но ведь нельзя же все время бубнить о своих чувствах! — молча возмущалась она. — Уж очень он простецкий тип. Он не может поддерживать даже самого простого разговора. И как могла я допустить нашу близость. Где были мои глаза!»
— Помните нашу первую встречу у Беликовых? — невольно спросила она.
По лицу его пробежала судорога.
— Гм… — ответил он и чуть-чуть покраснел.
— Что значит «гм»? — раздраженно спросила она. — Вам не хочется со мной разговаривать?
Он испуганно подхватил ее под руку.
— Что вы, что вы! Напротив, страшно хочется.
Ужасно хочется. Прямо безумно хочется. Какой истерик!
— Ну так чего же вы молчите, когда вас спрашивают?
— Я просто как-то не сообразил, что ответить. То есть не то, что ответить, а как ответить. Словом, растерялся. Ради Бога, не подумайте… Ну просто человек удивился, что вдруг так, на мосту, и прямо, так сказать, как говорится, всколыхнулись воспоминания. Дорогая, вы как-то странно на меня смотрите, вы точно не верите мне. Вы же знаете…
— Знаю, знаю, все знаю, — с раздражением перебила она. — Проводите меня домой, у меня голова болит.
— Нет, здесь что-то не то, — взметнулся он. — Я чувствую, что здесь не то. Вы, очевидно, меня не так поняли. Вы ведь не можете сомневаться в моем чувстве к вам? — воскликнул он с отчаянием.
— Да нет же, нет, верю, верю, — с раздражением отвечала она и, вздохнув, прибавила: — Проводите же меня домой.
У дверей своего дома она внимательно вгляделась в его расстроенное лицо и вдруг с отчаянием повернулась к нему и поцеловала его в лоб.
— До свиданья. Приходите скорей, — буркнула она, с ужасом глядя, как от ее поцелуя он весь расцвел, порозовел и бодрой, молодцеватой походкой зашагал по улице.
2. Его прогулка
Какой чудесный день! От реки легкий ветерок, солнце весенне-яркое. Прелесть! Если бы можно было провести этот день как хочется! Без всяких идиотских романов, вздохов и психологии, а просто сговориться бы, скажем, с Мишкой Петуховым да пойти пешком, скажем, в Сен-Клу, там в каком-нибудь кабачке закусить, дернуть по рюмочке-другой-третьей коньячку, отвести душу, поругать скаредов Поршевичей, мошенника Борискина, дуру Клопотову, все просто, душевно, уютно и радостно.
А тут эта пава насандалилась и выступает. Непонятая натура! Нудная, как разваренная телятина. Идет и молчит. А ведь не зайди за ней в воскресенье, таких истерик наделает, что за неделю не расхлебаешь. А может быть, и ничего? Надо как-нибудь храбрости набраться, да и ляпнуть сразу. Один конец. Повесится? Да, это именно такой тип. И смерть, наверное, выберет самую мерзкую, с высунутым языком. Ну вот и води ее, как серб обезьяну.
Она остановилась на мосту и стала смотреть на воду.
«Какой у нее унылый нос, — подумал он с отвращением. — И чего уставилась? Наверное, мысли о самоубийство и прочая истерия. Вот навязалась!»
— Пойдем, — сказал он. — Не надо так смотреть.
Какая тоска! И с каждым шагом раздражение все увеличивается.
— Зайдем в кафе, — предлагает он.
Она отказывается. Назло, конечно. И чего она злится? Изволь ей все время в любви изливаться. Ведь родятся же такие Иродицы!
Она мельком взглянула на него, и он с испуга схватил ее под руку. Предложил пойти в синема. Не хочет. Ну и черт с ней.
Идут.
Невыносимо идут. Прямо зареветь можно.
— Посмотрите, песик бежит! — вдруг умилилась она.
«Ах ты старая перечница, — думает он. — „Песик бежит“, нежности какие! „Песик“. Какая, подумаешь, деточка, никогда не видала, как собака бежит. Прямо за человека стыдно».
А рожа у нее, между прочим, презлая. Ну да все равно, только бы не перешла на нежности.
— А помните нашу первую встречу?
Трах! Вот оно, началось!
Его так и передернуло. Заорать бы на всю улицу: «Помню, черт тебя дери, эту встречу. По-о-омню!» Уф, даже в жар кинуло. Что она там стрекочет?
— Вы не хотите разговаривать, и тра-та-та, и тра-та-та…
Ну, пошло! Успокою ее, как могу. Вот навязал себе на шею! Голова болит? Ну и слава Богу. Только бы не заманила к себе пасьянсы шлепать. И зачем столько ерунды на свете? Столько глупой, глупой ерунды!