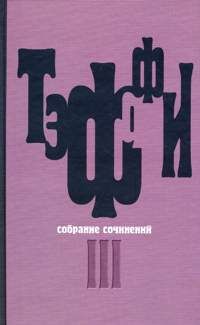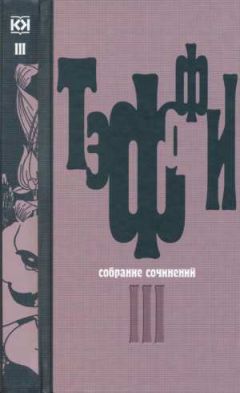У подъезда она вдруг поцеловала его в лоб.
— Дорогая, — пробормотал он, но, кажется, она не слышала.
Ну и пусть не слышала. К черту! Какое счастье, что у людей иногда голова болит! Какой простор, что болит, то есть простор для другой головы, которая не болит.
Куда теперь? Да никуда. Просто вот так пошагать пешком вдоль набережной. Что за прелестный вечер! А ведь придется завтра же зайти. А то, кто ее знает, еще повесится. Право, никогда ни одной минуты нельзя быть спокойным с таким типом. Я человек добрый, мне это тяжело. Хотя, может быть, — вот грешная мысль! — может быть, так было бы и не хуже.
Это, конечно, случается довольно часто, что человек, написав два письма, заклеивает их, перепутав конверты. Из этого потом выходят всякие забавные или неприятные истории.
И так как случается это большею частью с людьми рассеянными и легкомысленными, то они как-нибудь по-своему, по легкомысленному, и выпутываются из глупого положения.
Но если такая беда прихлопнет человека семейного, солидного, так тут уж забавного мало.
Тут трагедия.
Но, как ни странно, порою ошибки человеческие приносят человеку больше пользы, чем поступки и продуманные, и разумные.
История, которую я хочу сейчас рассказать, случилась именно с человеком серьезным и весьма семейным. Говорим «весьма семейным», потому что в силу именно своих семейных склонностей — качество весьма редкое в современном обществе, а потому особо ценное — имел целых две семьи сразу.
Первая семья, в которой он жил, состояла из жены, с которой он не жил, и дочки Линочки, девицы молодой, но многообещающей и уже раза два свои обещания сдерживавшей, — но это к нашему рассказу не относится.
Вторая семья, в которой он не жил, была сложнее.
Она состояла из жены, с которой он жил, и, как это ни странно, — мужа этой жены.
Была там еще чья-то маменька и чей-то братец. Большая семья, запутанная, требующая очень внимательного отношения.
Маменьке нужно было дарить карты для гаданья и теплые платки. Мужу — сигары. Братцу давать взаймы без отдачи. А самой очаровательнице Виктории Орестовне разные кулончики, колечки, лисички и прочие необходимости для женщины с запросами.
Особой радости, откровенно говоря, герой наш не находил ни в той, ни в другой семье.
В той семье, где он жил, была страдалица-жена, ничего не требовавшая, кроме сострадания и уважения к ее горю, и изводившая его своей позой кроткой покорности.
— Леди Годива паршивая!
Кроме того, в семье, где он жил, имелась эта самая дочка Линочка, совавшая свой нос всюду куда не следует, подслушивающая телефонные разговоры, выкрадывающая письма и слегка шантажирующая растерянного папашу.
— Папочка! Ты это для кого купил брошечку? Для меня или для мамочки?
— Какую брошечку? Что ты болтаешь?
— А я видела счет.
— Какой счет? Что за вздор?
— А у тебя из жилетки вывалился.
Папочка густо краснел и пучил глаза.
Тогда Линочка подходила к нему мягкой кошечкой и шепелявила:
— Папоцка! Дай Линоцке тлиста фланков на пьятице. Линоцка твой велный длуг!
И что-то было в ее глазах такое подлое, что папочка пугался и давал.
В той семье, где он не жил, у всех были свои заученные позы.
Сама Виктория «любила и страдала от двойственности». Ее муж, этот кроткий и чистый Ваня, не должен ничего знать. Но обманывать его так тяжело.
— Дорогой! Хочешь, лучше умрем вместе?
Папочка пугался и вез Викторию ужинать.
Поза чистого Вани была такова: безумно любящий муж, доверчивый и великодушный, в котором иногда вдруг начинает шевелиться подозрение.
Поза братца была:
— Я все понимаю и потому все прощаю. Но иногда моральное чувство во мне возмущается. Моя несчастная сестра…
Для усыпления морального чувства приходилось немедленно давать взаймы.
Поза маменьки ясно и просто говорила:
— И чего все ерундой занимаются. Отвалил бы сразу куш, да и шел бы к черту.
Все детали этих поз, конечно, герой этого печального романа не улавливал, но атмосферу, неприятную и беспокойную, чувствовал.
Но особенно неприятная атмосфера создалась за последнее время, когда к Виктории зачастил какой-то артист с гитарой. Он хрипел цыганские романсы, смотрел на Викторию тухлыми глазами, а она звала его гениальным Юрочкой и несколько раз заставляла папочку брать его с ними в рестораны под предлогом страха перед сплетнями, если будут часто видеть их вдвоем.
Все это папочке остро не нравилось. До сих пор было у него хоть то утешение, что он еще не сдан в архив, что у него «красивый грех» с замужней женщиной, и что он заставляет ревновать человека, значительно моложе его. А теперь, при наличности гениального Юрочки, который, кстати, уже два раза перехватывал у него взаймы, — красивый грех потерял всякую пряность. Стало скучно. Но он продолжал ходить в этот сумбурный дом, мрачно, упрямо и деловито, — словно службу служил.
Странно сказать, но ему как-то неловко было бы перед своими домашними вдруг перестать уходить в привычные часы из дому. Он боялся подозрительных, а может быть, и насмешливых, а то еще хуже — радостных взглядов жены и ехидных намеков Линочки.
В таких чувствах и настроениях застали его рождественские праздники.
Виктория разводила загадочность и томность.
— Нет, я никуда не пойду в сочельник. Мне что-то так грустно, так тревожно. Что же вы молчите, Евгений Павлыч? Вы слышите — я никуда не хочу идти.
— Ну что ж, — равнодушно отвечал папочка. — Не хотите, так и не надо.
Глазки Виктории злобно сверкнули.
— Но ведь вы, кажется, что-то проектировали?
— Да, я хотел предложить вам поехать на Монмартр.
— На Монмартр? — подхватил гениальный Юрочка. — Что ж, это идея. Я бы вас там разыскал.
— А бедный Ваня? — спросила Виктория. — Я не хочу, чтобы он скучал один.
— А я свободен, — заявил братец. — Я мог бы присоединиться.
— А я могла бы надеть твой кротовый балдахин, — неожиданно заявила маменька.
— Да, но как же бедный Ваня? — настойчиво повторяла Виктория. — Евгений Павлович! Я без него не поеду.
«Ловко, — подумал Евгений Павлович. — Это значит, волоки все святое семейство. Нашли дурака».
— Ну, что же, голубчик, — нежно улыбнулся он, — если вам не хочется, то не надо себя принуждать. А я, хе-хе, по-стариковски с удовольствием посижу дома.
Он взял ручку хозяйки, поцеловал и стал прощаться с другими.
— Я вам, то есть вы мне все-таки завтра позвоните! — всколыхнулась Виктория.
— Если только смогу, — светским тоном ответил папочка.
Ему самому очень понравился этот светский тон. Так понравился, что он сразу и бесповоротно решил в нем утвердиться.
На следующее утро, утро сочельника, жена-страдалица сказала ему:
— Ты не сердись, Евгеша, но Линочка позвала сегодня вечером кое-кого. Разумеется, совершенно запросто. Тебя, конечно, дома не будет, но я сочла нужным все-таки сказать.
— Почему ты решила, что меня не будет дома? — вдруг возмутился Евгений Павлович. — И почему ты берешь на себя смелость распоряжаться моей жизнью? И кто, наконец, может мне запретить сидеть дома, если я этого хочу?
Выходило что-то из ряда вон глупое. Страдалица-жена даже растерялась. Ее роль была стоять перед мужем кротким укором. Теперь получалось, что он ее укоряет.
Она почувствовала себя в положении примадонны, у которой без всякого предупреждения отняли всегда исполняемую ею роль и передали артисту совершенно другого амплуа.
— Господь с тобой, Евгеша, — залепетала она. — Я, наоборот, страшно рада…
— Знаем мы эти радости! — буркнул папочка и пошел звонить по телефону.
Звонил он, конечно, к Виктории, но подошел к аппарату братец.
— Передайте, что очень жалею, но едва ли смогу вырваться.
— То есть как это так? — грозно возвысил тон братец. — Мы уже приготовились, мы, может быть, отклонили массу приглашении! Мы, наконец, затратились.
Папочка затаил дыхание и тихонько повесил трубку. Пусть думает, что он уже давно отошел.
Но было тревожно.
Жена ходила по дому растерянная и как-то опасливо оборачивалась, втянув голову в плечи, точно боялась, что ее треснут по затылку. Шепталась о чем-то с Линочкой, а та пожимала плечами.
Папочка нервничал, поглядывал на телефон и бормотал тихо, но с чувством:
Нет, в этот вырубленный лес
Меня не заманят.
Где были дубы до небес,
Там только пни торчат.
При слове «пни» с омерзением представлял себе Викторьину маменьку в кротовом «балдахине».
Вечером страдалица-жена, окончательно потерявшая платформу, попросила его купить коробку килек и десятка три мандарин.