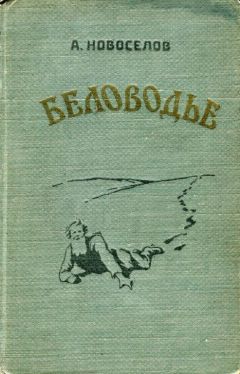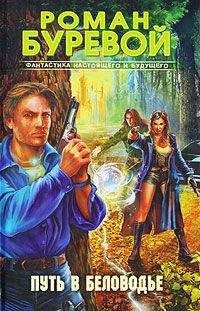— Не оставлю. Пойдем, — в сладком волнении шепчет он, наклонясь к самому ее лицу, — женкой будешь… Дедушка обрачит, не откажется.
В мертвой темноте еловых веток кто-то шумно шевельнулся. Хрястнул сухим треском подломившийся сук. Оба вздрогнули и испуганно вслушались. Но вверху по-прежнему — ни шелеста, ни ветерка.
— Али белка, али сыч, — догадался Иван.
— Ну его!
Сама, в неге, закрыла глаза и потянулась по-ребячьи, выгибая спину.
— И пошто ты такая? — чуть слышно спрашивал он.
— А какая же!
— Черт тебя знает… Голова с тобой болит без водки.
Уже сильно стемнело. Под горой, на болоте, старательно скрипит дергач. Невидимая крохотная пташка все еще пырскает в ближних кустах и, поднявшись на вершинку, без конца твердит свою несложную, звонкую песню. С полу, от речки, то потянет теплом, то пронизает сыростью.
Глаза у Акулины потемнели. Только вскинет их — будто омут откроется. Сладко и боязно искать его дно. Не оторвешься, не уйдешь. А сама огнем горит. Жаром пышет от тела…
Не заметил, как рука скользнула за расстегнутый ворот. Шершавая ладонь с дивной лаской легла на испуганно вздрогнувшую грудь и мигом потушила испуг, разбудила ее. Акулина положила свою руку сверху, придавила что есть силы, еще и еще. Пусть больнее будет, пусть, потом дольше, дольше болит грудь, вплоть до следующей встречи… Глаза манят глубиной. Силы нет в них смотреть.
— Не отдам, никому не отдам!..
Шепот тонет в складках сарафана на груди… И оборвались слова, погасли. Все ушло назад…
Были только двое. Была тайна, великая, как мир, глубокая, как небо…
Черным тяжелым сукном лежала ночь в долине, когда они спустились по крутому склону к речке.
— Так завтра?
— Ладно, ладно, — соглашалась Акулина. — Только не припер бы Гараська… Ему на ухо нечистики подносят… Думала сегодня подкатится, да видно робить привалили.
— Поглядим, как придет! — с задором отзывался Ванюшка, ныряя в кустах. — На бергалят железко по руке найдется…
А заснувшая старая ель словно только ждала, когда подальше отойдут ее гости. Лишь затихли шаги, в ее плотных ветвях кто-то грузно шевельнулся, закачал их и пополз по стволу, ломая хрупкие сучки.
— На Беловодье собрались! — вылезая из-под ели, злобно хохотал Гараська. — Святую обитель отыскивать!.. Блудить под елками!
Он оправил штаны и рубаху, постоял немного, что-то думая, потом плюнул на то место, где примяли траву, и, скверно, вычурно обругавши Акулину, скользнул в темноту.
VI
Никитишна безропотно несла через года свое горе, глубоко затаенное, никому неповеданное, и все привыкли видеть на лице ее застарелую, тихую скорбь. Словно схимница, принявшая обет невозмутимой кротости, плела она скучный, изо дня в день одинаковый, узор своей жизни. Но, много лет сбиравшиеся, тучи опускались на седую голову все ниже. Вот уже средина лета. Беловодцам скоро в путь. Панфил опять повеселел, помолодел и вечерами долго молится, а днем с утра хлопочет над дорожными запасами.
На воскресенье вечером, после горячей бани, Панфил ушел в моленную к вечерне. Никитишна долго чесала в крылечке свою голову роговым щербатым гребешком, перебирая на руках серебряные пряди, потом успела подоить, прибрать корову, обошла по хозяйству и уже накрыла стол для ужина, а старика все не было.
— Затянулся к Хрисанфу. Сговор там теперь. На другой, видно, хочет жениться.
Она горько улыбнулась своим мыслям, но сейчас же отпугнула их, как надоедливую муху, и пошла опять в несчетный раз по вросшим в землю, ее ровесникам, клетям и амбарушкам, всюду находя неотложное дело.
В сумерках вышла на улицу, села там на приваленное к стене бревно, и тут только почуяла тупую боль, боль в разбитом старом теле. Не хотелось уже ни хлопотать, ни думать о домашнем. Сидела маленькая, сгорбленная, неприметная, а по широкой улице плелись хмельные мужики. Их голоса — один задорно-высокий и требующий, другой глухо бухающий непонятные слова — мешались с настойчивым собачьим лаем. Видно было, как рослые, тяжелые фигуры без пути сорвались в темноте и то сходились носом к носу, то порывисто бросались в стороны.
— Он это кобылу-то мою! А! — икая и отплевываясь, звенел ржавой струной тот, что был выше. — Са-аловую! Может он понимать? А?
— Ца-аган! Язва его задави! — буравил тишину другой, и тяжкие слова его, как падающие с утеса камни, пропадали где-то тут же, словно уходили в землю.
— Вот! Ты хорош… хороший человек, Петро Степаныч… тьфу! Вот!.. Я ему грю… горю ему… нне-ет, брат, нас за это место не уку-у-сишь. Верно? А! Верно я говорю?
Тени подвигались медленно. Никитишна старалась разглядеть, узнать их.
— Ишь, назюкались бласловленные. Другого-то никак не вспомнить… Ах ты, матушка моя, да это ведь зять Бухваловских! Приехал, видно. Вот Бухвалиха его накроет.
Никитишна вздрогнула: она и не заметила, как подошел Панфил.
— Заждалась, поди, к ужну?
Голос у него был кроткий, извиняющийся.
— Ну, дак время уж, мотри. Народ, однако, весь отужинался.
Хотела выспросить, куда ходил, да по привычке промолчала. Покряхтела, тяжело поднялась, опираясь костяшками пальцев в бревно, и пошла за Панфилом.
В крыльце они оба едва взобрались по скрипучей крутой лестнице и оба говорили старые слова о том, что надо бы подколотить расшатанные доски, подпереть их снизу, да уж вместе и всю избу обиходить к осени. Изба высокая, хорошая изба. Один лес кондовый чего стоит — рубили старики на выбор, когда деревню заводили — пол и потолок из аршинных, расколотых надвое бревен, через сто лет не погнется. Но не доходят руки.
— Суета все: то да се, — хозяйственно говорил в темноте Панфил.
Так хотелось верить этим простым мужицким словам, и Никитишна верила, опять надеялась на что-то радостное, светлое.
Отыскавши привычной рукой на полочке сальный огарок в самодельном подсвечнике, она ощупью попала в отворенную дверь и, пока дошла до печки, натолкнулась на Панфила, тихо творившего у самого порога краткую молитву, запнулась за полено, наступила на хвост кошке.
— Прости, господи, чисто без глаз. У-у, изжаби те, хвостатая!
Но и в брани было больше благодушия, чем злобы.
Она быстро раздула на горячей загнете лучину, и, как только вспыхнул огонь, мухи шумно снялись разом с потолка и со стен и бестолково закружились по избе роями. Тишина ушла куда-то в уличную темь.
Оплывшая свеча горела неспокойно — черная светильня загибалась, обвисала, и пламя исходило копотью. Пушисто-серые ночные мотыльки, ворвавшись через выбитое стеклышко, доверчиво летали вокруг пламени, садились на него и, обожженные, беспомощно крутились по столу на спинках. На них наползали медно-золотые тараканы, останавливались, мудро шевелили тонкими усами и, испуганные, быстро убегали под столешницу.
Никитишна, не затихая, шваркала ногами по полу. Панфил сидел на лавке. Утомленный длинным хлопотливым днем, он отдыхал. Мысли о том, большом и значительном, все еще властно проходили в голове, но старуха бросила с шестка тяжелое полено — и все пропало. Панфил вздрогнул и вгляделся в угол.
— Что она там? Все хлопочет, день-деньской не уймется.
И, как гость, давно не бывавший в этой чистой и теплой избе, он оглядел все стены, печку, потолок. Все было такое же, как у других, но откуда, когда и как попало оно в избу, этого Панфил не мог сказать: все это шло мимо него. Особенно странными казались ему пестрые, расшитые причудливым узором, рушники. Спускаясь по стенам от потолка до лавок, они придавали избе нарядный, хозяйственный вид. Сама ли вышивала их Никитишна, иль нанимала девок за ведро медового квасу для парней на вечерке — никогда об этом не подумал, не спросил, да и самые полотна — хотя видел их каждую минуту — разглядел только теперь. Словно незнакомую, рассматривал он сгорбленную, одряхлевшую фигуру старухи в подоткнутом за пояс темном сарафане, с головой, повязанной по кичке теплой шалью. В душе родилось что-то теплое, хорошее, и крепко захотелось сказать его, поделиться думами, спросить совета, но Никитишна, подойдя к столу с ковригой хлеба, посмотрела упорно в глаза, готовая спросить бог знает о чем, и он мгновенно встряхнулся, выбросил из головы житейское, опять наморщил лоб. А за ним потухла и Никитишна.
За ужином, неторопливо черпая из чашки горячие постные щи вприкуску с перистым зеленым луком, они скупо говорили малозначащие обиходные слова.
— С конями неладно у Хрисанфа, мокрец навалился… Мается теперь, подлечивает.
Никитишна насторожилась.
— Был там, видно?
Панфил низко нагнулся над чашкой, разыскивая мелкие куски картошки.
— Был… старики потолковать сбирались.
Он тихо улыбнулся и покачал головой.
— Беда с этим Евсеем. Разговору много, а того гляди останется. Опять на пасеку уплелся.