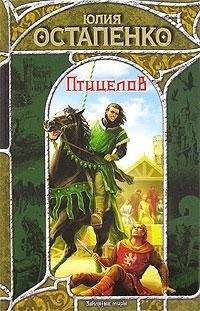действие таинственной неодолимой власти, против которой у меня не оказалось никакой защиты. Притяжение, похожее на наваждение, росло во мне. Но мне ведь 52, а ей 27, каким надо быть ослом, чтобы строить хоть какие-то иллюзии! Предательство, в какие одежды его ни ряди, — отврат! Минут двадцать мы шли молча, каждый думая о своём. Стемнело, но из-за гор поднялась почти полная луна, и идти по тропинке было сносно. Я шёл первым, тропу я знал хорошо. Тем не менее, в конце концов, я споткнулся о какой-то не то пенёк, не то корень и хлопнулся во весь рост. Как на грех, рукой я попал на осколок стекла. Пришлось останавливать кровь. Соня дала свой белоснежный платок, повозилась со мной. Потом сказала:
— Мне кажется, Константин Михайлович, вы шли чем-то расстроенный, я чувствую себя виноватой.
— Да нет же, это я виноват!
И тут я, ошеломив самого себя, напрямую говорю ей о всех своих последних терзаниях. Прозвучало это как самое настоящее признанье в любви, чего я делать совсем не хотел, и вдруг — сделал! Распоряжалась мной всё та же таинственная сила. А может быть, это была заслуга злосчастной выпитой мной водки, кто знает. Да, ещё и луна сияла, видел бы ты эту луну! Ну, в общем, что случилось, то случилось. Соня выслушала меня, затем заговорила, чуть волнуясь, в голосе её не чувствовалось и следа выпитого:
— Константин Михайлович, хорошо, что у вас хватило храбрости сказать мне всё, что вы сказали. Теперь и я, пожалуй, решусь вам сказать, что и со мной происходило то же, что с вами. Вы произнесли слова «притяжение», «наваждение», так вот, я, не подумайте обо мне как о ветреной особе, мучилась тем же. Я думала: «Вот идёт рядом прекрасный человек, наверное, я его раздражаю, но он терпит, в нём есть значит редкое ныне качество — благородство. Нечего себе лгать: он почему-то с первых мгновений волнует и притягивает, как магнит. Разница в возрасте, честное слово, только в его пользу. Утёс! Увы, он наверняка счастлив в семейной жизни, и самое лучшее, да, самое лучшее — поскорее с ним расстаться. Как жаль!» Видите, я тоже сделала вам признанье. Мы квиты.
После этого между нами как будто размыло какую-то плотину. Оставшуюся дорогу мы проговорили легко и сумбурно. Она и я, мы, оказывается, любили одни и те же книги, одни и те же фильмы (я с детства был киноманом). Теперь я уже не помню всего, но из иностранных фильмов оба мы восхищались «Ночами Кабирии» и «Греком Зорба», а из наших долго говорили о «Приходите завтра» и «Параде планет». Этот «Парад планет» оба мы смотрели по нескольку раз — фильм с неподдающимся объяснению обаянием. Мы выбирали, она со своей стороны, а я со своей, темы, которые уводили бы нас от «короткого замыкания», к которому нас, мы оба это чувствовали, клонило. Занимались нами стихии посильнее нас. Было поздно, и я проводил Соню до самого дома её родителей — одноэтажного двухквартирного с палисадником, в длинном ряду таких же. Не в центре дело было.
Мы попрощались легко и просто, она поцеловала меня чуть более долгим, чем дружеский, поцелуем и, слегка оттолкнув, быстро ушла по дорожке к крыльцу. На крыльце она обернулась, на минуту замерла, а потом помахала мне рукой и вдруг негромко, но внятно крикнула: «Ка-ра-би-и-ин!» Я сначала не сообразил, а потом спохватился и так же негромко прокричал в ответ: «Ку-ста-най!»
Вот и всё. Больше мы никогда не виделись.
Я думал, Михалыч закончил на этом рассказ, но он, немного помявшись, продолжил:
— Знаешь, Саня (так меня зовут), на этом для меня ничего не кончилось. Я шагал домой по каким-то тёмным переулкам в очень приподнятом настроении. Не скрою, эта Соня меня сильно встряхнула, я не то что бы помолодел, я просто почувствовал себя гимназистом — ну, ей-богу! И смех, и грех, я даже посмеиваясь пробормотал себе под нос: «Ну, что, старый дуралей, “стоило жить и работать стоило?” Так мне было хорошо! Прекрасное лицо Сони всё время всплывало перед глазами. Только не смейся, хотелось петь. Ни на название улицы, ни на номер дома я тогда и не взглянул. Как-то так вышло. Пришёл домой довольно поздно. Жена изволновалась: «Почему так долго? А что с рукой?» Обработала, перевязала. Сели ужинать. Взглянул на неё, на сединки в волосах — и вдруг внутри у меня всё стало рушиться: «Ах, и сволочь же ты, Константин Михайлович! Вор и предатель! Помолодел, значит, шкура! Мальчик резвый, кудрявый, влюблённый, да?! Сгореть бы тебе на месте!» Жена увидела по лицу моему, что со мной что-то неладно, принялась хлопотать:
— Иди в постель, я тебе туда принесу поесть, столько километров отмахал, да ещё и руку поранил!
Теперь уже, Саня, всё позади, но, знаешь, не могу что-то справиться, поселились во мне самоугрызения. Время, говорят, — неплохой лекарь, но со мной у него осечка. Ещё и этот шрам на ладони, посмотрю на него — и хандра! Никому, кроме тебя, я этого не рассказывал. Скажи мне, Саня, как по-твоему, я предатель? Сподличал я? Только честно?
Тут я рассмеялся:
— Друг ты мой, Михалыч, да какой же ты предатель, ты такое же чудо света, как Колосс Родосский или висячие сады Семирамиды! Таких, как ты, уже пора в музей, под стекло. Эта твоя пьяненькая Соня, она, что, не человек, ей не надо поддержки? Тоже ведь дитя человеческое! Ведь не от избытка счастья она напилась. Ну, нахохлился бы, застегнулся на все пуговицы и что? Не предал ты никого, ты просто не пожалел тепла. Ну, сделал признание и молодец! Можешь собой гордиться. Прости меня, Михалыч, но ты из чистой наивности себя заклёвываешь, просто смешно. Какой-то пустяк раздул в трагедию. Делать тебе нечего!
— Ты, правда, так считаешь?
— Ну да!
Михалыч повеселел.
— Ладно, Саня, тут немного осталось, допьём?
Мы допили коньяк и принялись сдвигать стулья, устраиваться на ночлег. Спали как убитые, утром даже немного проспали, люди уже пришли на работу, а мы только принялись распечатывать помещения и заполнять журналы.
…Но светлый образ милый
Спасут, быть может, чёрные чернила.
У. Шекспир, сонет 65
В далёком-предалёком пятьдесят каком-то году двадцатого века, месяце этак в июле гостил я, тощий и долговязый школяр, перешедший в седьмой класс, у своей бабушки в великолепном южном городе А. Был я тогда, сам того не