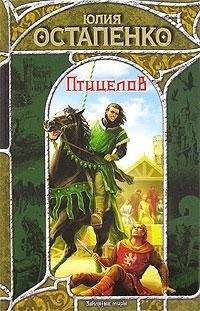У левой же стены стояла невысокая тахта, а над ней висел диковинный однотонный серо-жёлтый гобелен с тропическими деревьями, цветами, лианами, попугаями, анакондами и бабочками. Один угол комнаты был отгорожен ширмой, которая тоже была настоящим произведением искусства: вишнёвого цвета, деревянная, с японскими (или китайскими?) пейзажами на шёлковых плоскостях. Да, посреди гобелена солидно, с большим достоинством, висел на длинном ремешке настоящий морской бинокль. Это за тысячи-то километров от ближайшего моря! Между ширмой и тахтой была закрытая узкая дверь в соседнюю комнатку — наверное, спальню. Царили корабельный порядок и корабельная чистота.
— Ну, как тебе моя нора?
— У вас так здорово, мне очень нравится! Настоящая капитанская каюта!
— Правда? Спасибо. Если у тебя найдутся 15 минут, можем попить кофе со сгущёнкой.
— А я не помешаю вашим делам?
— Нет, конечно, мне будет приятно. Есть восточная поговорка: «Гость в доме — Бог в доме».
Она ушла за ширму и вскоре вернулась с маленьким блестящим самоварчиком, тоже из диковинок — пузатенький на трёх кривых ножках, он, оказывается, был предназначен именно для варки кофе. Майя зажгла фитилёк спиртовки, вскоре вода в самоварчике заклокотала, запах кофе заполнил комнату. Чашечки были верх изящества, и только сгущёнка оказалась в обыкновенной жестяной банке — слава богу, хоть что-то привычное. А то я начал робеть и стесняться. Кофе получился замечательно вкусным, для меня это была экзотика, у бабушки в обиходе был только чай. Крепкий кофе вызвал лёгкую взбаламученность нервов.
— Майя, а у вас и грампластинки есть?
— Да, довольно много. Хочешь послушать?
— Поставьте, если не трудно, что-нибудь.
— Ну, вот у меня есть Александрович, Лемешев — прекрасные певцы.
— Нет, мы с моим отцом их не любим — не мужские какие-то голоса, это только наша мама ими заслушивается. Мы любим Шаляпина, Рейзена, Гмырю.
— Ах, вон что! Вам, сударь, непременно бас подавай. Бедные Лемешев с Александровичем, хорошо, что они нас не слышат. На ваше счастье есть у нас и Шаляпин.
Она порылась в шкафчике и поставила на диск проигрывателя пластинку, Шаляпин запел: «Выходи, о друг мой нежный, бил свиданья час, сон свой детский безмятежный отгони от глаз…» Пластинка была старая, голос прорывался сквозь шорохи и потрескивания, но от этого почему-то сильнее трогал душу. Походило на спиритический сеанс, на колдовство. Давно умерший Шаляпин явился к нам из тёмной пучины времён, его голос жил в нашей комнате, казалось, будто пел невидимый призрак. Чертовски было хорошо пить горячий, сладкий кофе и слушать серенаду Мефистофеля, чертовски хорошо!
— Сева, а какие книжки ты любишь?
— Больше всего люблю про море и, особенно, про путешественников, заброшенных на необитаемые острова, я бы и сам хотел жить на острове, как Робинзон Крузо. Всегда ему завидую, когда читаю. Я уже два раза эту книгу прочитал. Правда, когда он по России путешествует, у меня всякий интерес пропадает: не на острове дело происходит — вот скука! Ну, ещё Стивенсона люблю и Станюковича, Жюль Верна. Поэтому мне ваша комната так и понравилась. Кажется, выглянешь в окно, а там — океан. И барометр у вас есть, и бинокль, и парусник такой красивый. Вы, наверное, очень счастливая женщина.
— О да! Не в бровь, а в глаз! Даже голова кружится. Увы, всё это остатки былой роскоши, я ведь когда-то жила в Ленинграде, мой отец — моряк, капитан дальнего плаванья. Мы с мужем приехали сюда 6 лет назад. Но это повесть невесёлая… Налить тебе ещё кофе?
— Нет-нет, спасибо, мне уже пора, я побегу.
Она не стала задерживать, но тепло и просто сказала:
— Жаль, что сегодня тебя ждут дома с хлебом. Ну ничего. Приходи в гости. Мы ведь как-нибудь ещё поговорим, да? Вот что, давай условимся: я поставлю — она открыла книжный шкаф, помедлила — вот этого птицелова сюда, на подоконник. Это была небольшая бело-зелёная фарфоровая фигурка — симпатичный, слегка женоподобный птицелов в широкополой шляпе и с клеткой за спиной.
— Посмотришь с улицы: если он на подоконнике — значит, я дома, если его нет — значит, и меня нет. Договорились?
— Хорошо, договорились, до свидания, Майя!
— До свидания.
Выйдя на улицу, я оглянулся на её окна: птицелов стоял на месте, Майя снизу вверх смотрела мне вслед и махала рукой. Я тоже помахал рукой. По дороге домой я всё возвращался в мыслях к произошедшему. Стать бы могущественным джинном и подарить Майе средневековый замок с башнями и толстыми стенами! Почему-то щемило сердце от жалости и к комнатке, и к её обитательнице. Ага! Наверное, вот почему: на её окнах снаружи были решётки от воров. Они-то и придали невесёлую окраску последней сценке: маленький птицелов, прекрасное лицо Майи и грубая железная решётка — всё это отчётливо всплыло в памяти. Да, грустно.
Внезапно я ощутил Время как неутомимого и неумолимого погонщика: только что прошествовали две наши тени по тихой улочке, только что клокотал кофе в блестящем самоварчике, только что обводилась глазами чужая странная комната — куда всё это девалось? И продолжает деваться — куда? Ежесекундно. Ничем здесь, абсолютно ничем нельзя завладеть, нельзя что-то переживаемое заключить в шкатулочку и держать под подушкой! Всё проносится… Превращается в туман, в ничто. Вдруг показалось, что сознание моё, моё «Я» неподвижно и что на самом деле это дома и деревья наплывают на меня, вот сейчас наплывут двор и дом бабушки — скромное окружение нашей жизни. Потом новые картины придут на смену уходящим — омывается, омывается и омывается моё удивляющееся сознание волнами действительности, и эти волны никакая сила в мире не остановит. Лечу куда-то. Мчусь, как в экспрессе. К счастью, это ощущение полной подвластности безжалостному течению Времени было смутным и коротким. В 13 лет, слава богу, недолго предаёшься философским раздумьям.
На другой день я дважды потерпел поражение в борьбе с собой — не выдержал и сбегал посмотреть на вчерашние окна — птицелова не было. Мне не хотелось показаться назойливым и вместе с тем тянуло убедиться, что наш уговор в силе. За хлебом идти не пришлось, его пока хватало, день прошёл без особых событий. Так продолжалось ещё целых три дня — птицелов не появлялся. В очереди за хлебом его хозяйки тоже не было, сколько я ни всматривался. В голове моей сами собой возникли мрачные предположения: наверное, я не очень-то понравился Майе: башмаки обшарпанные, брюки на коленях пузырятся, да и вообще весь я какой-то кургузый, неотёсанный. Ну да, сама, небось, не рада, что пригласила в дом, прячется теперь от меня, избегает.