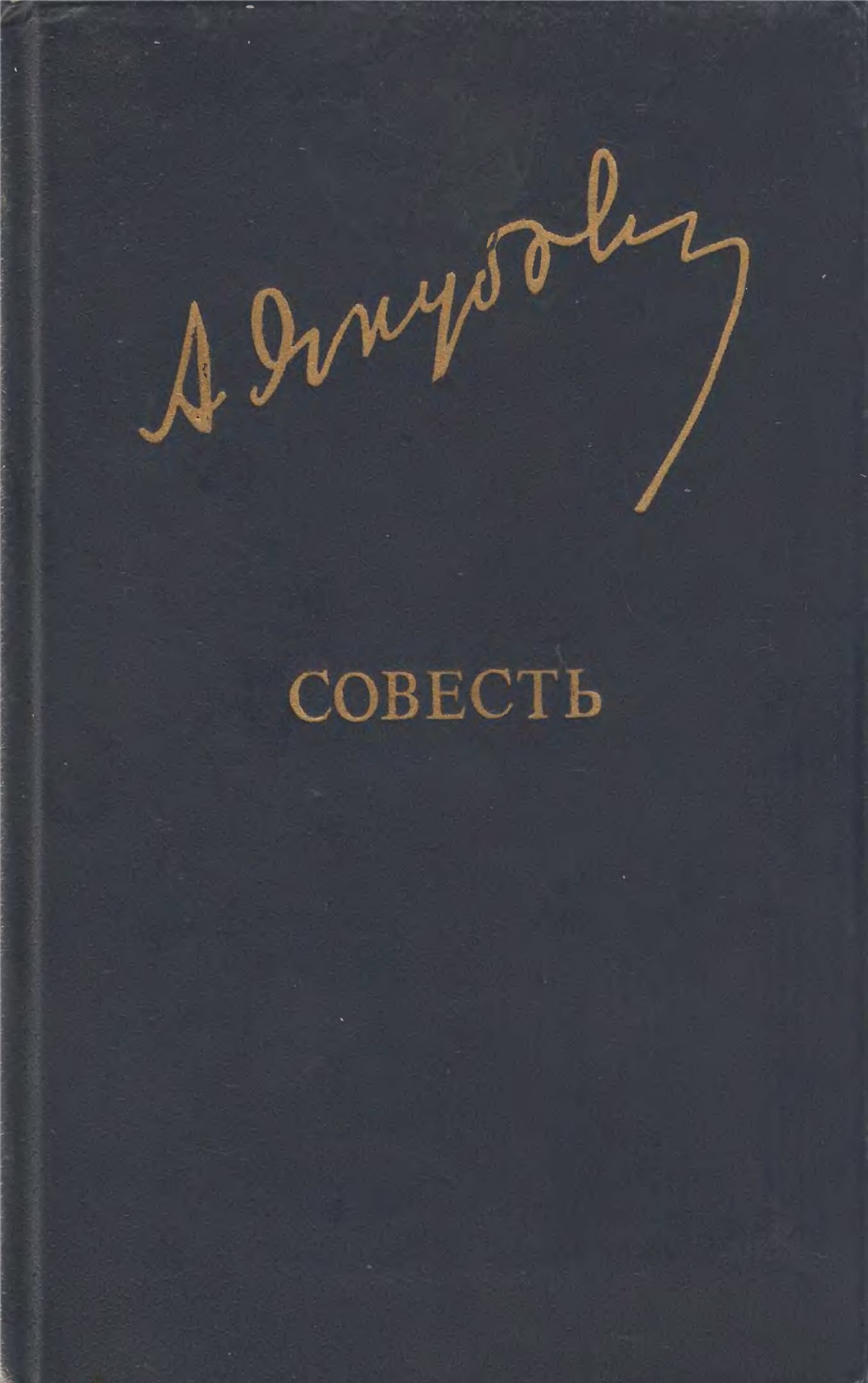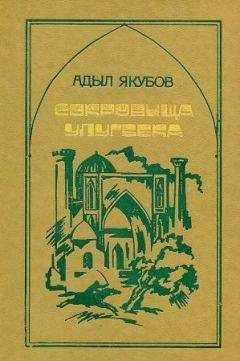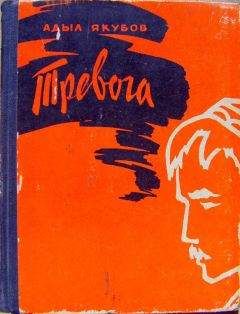на полную мощность.
Начала издалека: в этом мире не дождешься, чтобы платили за добро добром. Закончила сетованиями на зятя: отдали ему любимое дитя, доверили. Откуда такое отношение к ним? Чем они его заслужили? И наконец рыдания и угрозы: увезет дочь, заберет внучек…
…Дверь осторожно открылась, вошла Махбуба. В припухших глазах следы бессонницы, лицо побледнело, осунулось — тоже нелегко.
— Родители собрались уезжать. Отец хочет вам что-то сказать, можно ему войти? — Махбуба подавила всхлип, не стала ждать ответа. Не успела закрыться за нею дверь, явился Вахид Мирабидов.
— Можно, сынок? — вид напроказившего мальчишки, глаза жалобно моргают, руки покорно сложены на животе. Редкие пепельно-серые волосы, обычно так благопристойно обрамлявшие лик, сплелись и взлохматились. Встал перед зятем, сиротливо склонил голову. У Шукурова невольно сердце сжалось.
— Прошу вас, отец, садитесь.
— Благодарю, сынок. Пришел вот попрощаться и… извините уж старика, снова я об этом надоевшем вопросе. Надеюсь, мой возраст…
— Я слушаю вас…
— Я, собственно, о… о вашей милиции. Оставят они меня, старика, в покое, учтут мою седину или будут еще вызывать, трепать нервы? — Вахид Мирабидов как-то даже воровато взглянул на зятя и сразу отвел глаза.
Шукуров молча посмотрел в окно. Опять за свое! Снова старый халат да старый кушак! Когда только, по какой причине родилась в нем и пустила корни уверенность, что секретарю райкома все под силу? Ведь вот как сказал — «ваша милиция»! Думает, что так и должно быть в жизни. И не темный же, безграмотный простак — ученый, солидный человек! То-то и есть — ученый ли?.. Шукурову припомнился ташкентский разговор с домлой Шамурадовым. Как он тогда говорил: с позволения сказать, ученый. Это ведь о Мирабидове. Шукуров теперь точно знает. А как хотелось бы Шукурову видеть своего тестя таким же чистым и великодушным, как домла Шамурадов. За шестьдесят тестю перевалило, а все норовит свернуть на кривую дорожку.
Шукуров с трудом подавил тяжелые мысли.
Вахид Мирабидов по-прежнему стоял у порога — руки на животе, глаза просительные, терпеливо, с робкой надеждой ждал. Вразумлять этого человека — напрасный труд. Но обидные слова все же сорвались с языка:
— Удивляюсь я вам, отец!
— То есть?
— Вы же ученый, а мыслите… Считаете, можно обойти любой закон…
Слова зятя отняли последние силы. Вахид Мирабидов беспомощно опустился в кресло у дверей.
— Прошу вас, сынок… Не будем касаться юридического аспекта…
— Да я и не собираюсь. Просто удивительно: когда в вас завелось все это, все эти взгляды? — воскликнул Шукуров. И вдруг вырвалось: — Может, когда писали свои статьи против домлы Шамурадова?
Глаза Вахида Мирабидова округлились.
— Нормурад Шамурадов! — застонал он. — О аллах! И вам, мой сын, уже донесли. Не спешите судить. Вы же знаете, что это были за годы. Да и сколько я уже перенес за ту свою ошибку. Как я сам казнил себя, как терзал! Неужели еще мало?
Из глаз Вахида Мирабидова закапали слезы. Шукуров сжал губы, удерживая готовые вырваться слова. Перевел дыхание.
— Простите, может, я не прав… Но мне хочется видеть вас прямым и честным, отец. Теперь, когда вы уже не молоды, должны же, наконец, подумать, как говорится, и о душе.
— Хорошо, сынок, хорошо. А теперь разрешите откланяться… — Вахид Мирабидов торопливо попятился к двери, словно бежал от беспощадных слов зятя.
«Кажется, я перегнул палку, — подумал Шукуров. И сам же отвел эту мысль. — Каждый жнет то, что сеет». Шумно вздохнув, будто освободился от тяжести, вышел вслед за тестем. Что бы там ни было, а гостей полагается проводить. Этого требовали и долг хозяина, и простое приличие.
4
Домла Шамурадов почувствовал, что летит в бездонную пропасть, и очнулся.
В комнате было полутемно. В углу, под зеленым абажуром, Латофат читала книгу, как школьница, подперев подбородок руками. Уловив беспокойное движение домлы, она обернулась:
— Вам что-нибудь подать, дедушка?
— Нет, спасибо. Где Хайдар?
— Его вызвали в город. Задерживается что-то…
«Почему эта девушка здесь? Каждый день приходит, дежурит до полуночи. Наверно, Хайдар попросил. Одна с больным стариком. Напрасно он так делает».
Нормурад-ата почувствовал себя плохо в ночь после бурного разговора с Атакузы. «Предынфарктное состояние», — определил врач и приказал: лежать и не двигаться. А он-то рассчитывал поработать…
— Может, чаю подать?
— Нет-нет…
— Вы просили почитать Герцена…
— Да, да почитать, — сказал домла. — Почитаешь попозже…
Омар Хайям и Навои — их стихи лежали на столике у дивана. Но и раньше, и теперь — всего ближе был домле Герцен, особенно «Былое и думы». Эта книга в последнее время стала его постоянным собеседником. Книга рассказывала о тяжких днях человека, о страдании, и все — с мудрой, грустной улыбкой. Это как раз и нужно было домле. Книга лечила его собственную грусть, уводила от горьких воспоминаний. Но сейчас и она…
Странно, вот домла снова закрыл глаза и сразу опять начал опускаться все в ту же бездонную черную пропасть. Там, на дне пропасти, он увидел Гульсару-биби, она подняла на него печальные насурьмленные глаза. Что это — бред? Нервы шалят — так сказал врач из города, его приглашали осмотреть домлу. Прав врач, расстроились нервы от горьких дум. А думы все о том же, об Атакузы!..
Нормурад-ата знает, что племянника вызывали и к следователю, и в райком, что в колхозе началась ревизия. Черные тучи над головой Атакузы уже сгустились, вот-вот грянет гроза. Одна и та же мысль не дает покоя: он, Нормурад, не сумел отвести беду! Сколько раз начинал говорить с Атакузы и всегда срывался. Конечно, Атакузы сгубило тщеславие. Когда только подцепил он эту хворь?.. Э, брось, старик! А сам ты не был ли заражен той же болезнью? Тебя возмущала даже мысль, что могут перечить тебе — известному человеку, ученому! Вот откуда все, вот почему и орал, гремел! Тоже — громовержец! Неужели так все и кончится? Поговорить бы с ним, с родным человеком, по душам!.. Теперь он сумел бы это сделать. Откроет племяннику самые заветные мысли. А если не успеет? Что тогда? Нести все с собой в могилу? Все, все может случиться. Недаром, наверно, мерещится ему Гульсара, все зовет и зовет к себе.
Опять, опять подступает знакомая боль в груди. Домла крепко сжал зубы, терпел. Вот начало затихать. Позвал Латофат.
— Дитя мое, возьми из ящика стола бумагу… и ручку… Сядь вот здесь, мне надо кое-что продиктовать…
Латофат поставила на столик у дивана зеленую лампу, приготовилась писать. Какие тревожные, настороженные у нее глаза. Надо отпустить домой…
Он зажмурился — обдумывал. Вот уже больше недели мысленно