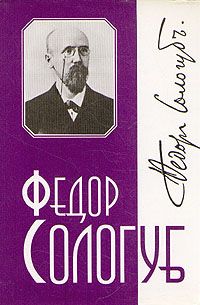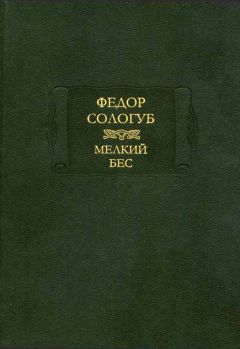— Наследник. Хорош, а? Что из него будет, а? Как вы полагаете? Дураком может быть, но подлецом, трусом, тряпкой — никогда.
— Да, что ж, — пробормотал Передонов.
— Ныне люди пошли — пародия на человеческую породу, — гремел Авиновицкий. — Здоровье пошлостью считают. Немец фуфайку выдумал. Я бы этого немца в каторжные работы послал. Вдруг бы на моего Владимира фуфайку! Да он у меня в деревне все лето сапог ни разу не надел, а ему — фуфайку! Да он у меня избани на мороз нагишом выбежит, да на снегу поваляется, а ему — фуфайку. Сто плетей проклятому немцу!
От немца, выдумавшего фуфайку, перешел Авиновицкий к другим преступникам.
— Смертная казнь, милостивый государь, не варварство! — кричал он. — Наука признала, что есть врожденные преступники. Этим, батенька, все сказано. Их истреблять надо, а не кормить на государственный счет. Он — злодей, а ему на всю жизнь обеспечен теплый угол в каторжной тюрьме. Он убил, поджег, растлил, а плательщик налогов отдувается своим карманом на его содержание. Нет-с, вешать много справедливее и дешевле.
В столовой накрыт был круглый стол белою с красною каемкою скатертью и на нем расставлены тарелки с жирными колбасами и другими снедями, солеными, копчеными, маринованными и графины и бутылки разных калибров и форм со всякими водками, настойками и наливками. Все было по вкусу для Передонова и даже некоторая неряшливость убранства была ему мила.
Хозяин продолжал громить. По поводу съестного обрушился на лавочников, а затем заговорил почему-то о наследственности.
— Наследственность — великое дело! — свирепо кричал, он. — Из мужиков в баре выводить — глупо, смешно, нерасчетливо и безнравственно. Земля скудеет, города наполняются золоторотцами, неурожаи, невежество, самоубийства — это вам нравится? Учите мужика, сколько хотите, но не давайте ему чинов за это. А то крестьянство теряет лучших членов и вечно останется чернью, быдлом, а дворянство тоже терпит ущерб от прилива некультурных элементов. У себя в деревне он был лучше других, а в дворянское сословие он вносит что-то грубое, нерыцарское, неблагородное. На первом плане у него нажива, утробные интересы. Нет-с, батенька, касты были мудрое устройство.
— Да вот и у нас в гимназии директор всякую шушеру пускает, — сердито сказал Передонов, — даже есть крестьянские дети, а мещан даже много. [7]
— Хорошее дело, нечего сказать! — крикнул хозяин.
— Есть циркуляр, чтоб всякой швали не пускать, а он по-своему, — жаловался Передонов, — почти никому не отказывает. У нас, говорит, дешевая жизнь в городе, а гимназистов, говорит, и так мало. Что ж что мало? И еще бы пусть было меньше. А то одних тетрадок не напоправляешься. Книги некогда прочесть. А они нарочно в сочинениях сомнительные слова пишут, — все с Гротом приходится справляться.
— Выпейте ерофеичу, — предложил Авиновицкий. — Какое же у вас до меня дело?
— У меня враги есть, — пробормотал Передонов, уныло рассматривая рюмку с желтою водкою, прежде чем выпить ее.
— Без врагов свинья жила, — отвечал Авиновицкий, — да и ту зарезали. Кушайте, хорошая была свинья.
Передонов взял кусок ветчины и сказал:
— Про меня распускают всякую ерунду.
— Да, уж могу сказать, по части сплетен хуже нет города! — свирепо закричал хозяин. — Уж и город! Какую гадость ни сделай, сейчас все свиньи о ней захрюкают.
— Мне княгиня Волчанская обещала инспекторское место выхлопотать, а тут вдруг болтают. Это мне повредить может. А все из зависти. Тоже и директор распустил гимназию: гимназисты, которые на квартирах живут, курят, пьют, ухаживают за гимназистками. Да и здешние такие есть. Сам распустил, а вот меня притесняет. Ему, может быть, наговорили про меня. А там и дальше пойдут наговаривать. До княгини дойдет.
Передонов длинно и нескладно рассказывал о своих опасениях. Авиновицкий слушал сердито и по временам восклицал гневно:
— Мерзавцы! Шельмецы! Иродовы дети!
— Какой же я нигилист? — говорил Передонов, — даже смешно. У меня есть фуражка с кокардою, а только я ее не всегда надеваю, — так и он шляпу носит. А что у меня Мицкевич висит, так я его за стихи повесил, а не за то, что он бунтовал. А я и не читал его «Колокола».
— Ну, это вы из другой оперы хватили, — бесцеремонно сказал Авиновицкий. — «Колокол» Герцен издавал, а не Мицкевич.
— То другой «Колокол», — сказал Передонов, — Мицкевич тоже издавал «Колокол».
— Не знаю-с. Это вы напечатайте. Научное открытие. Прославитесь.
— Этого нельзя напечатать, — сердито сказал Передонов. — Мне нельзя запрещенные книги читать. Я и не читаю никогда. Я — патриот.
После долгих сетований, в которых изливался Передонов, Авиновицкий сообразил, что кто-то пытается шантажировать Передонова и с этой целью распускает о нем слухи с таким расчетом, чтобы запугать его и тем подготовить почву для внезапного требования денег. Что эти слухи не дошли до Авиновицкого, он объяснил себе тем, что шантажист ловко действует в самом близком к Передонову кругу, — ведь ему же и нужно воздействовать лишь на Передонова. Авиновицкий спросил:
— Кого подозреваете?
Передонов задумался. Случайно подвернулась на память Грушина, смутно припомнился недавний разговор с нею, когда он оборвал ее рассказ угрозою донести. Что это он погрозил доносом Грушиной, спуталось у него в голове в тусклое представление о доносе вообще. Он ли донесет, на него ли донесут — было неясно, и Передонов не хотел сделать усилия припомнить точно, — ясно было одно, что Грушина — враг. И, что хуже всего, она видела, куда он прятал Писарева. Надо будет перепрятать. Передонов сказал:
— Вот Грушина тут есть такая.
— Знаю, шельма первостатейная, — кратко решил Авиновицкий.
— Она все к нам ходит, — жаловался Передонов, — и все вынюхивает. Она жадная, ей все давай. Может быть, она хочет, чтоб я ей деньгами заплатил, чтоб она не донесла, что у меня Писарев был. А может быть, она хочет за меня замуж. Но я не хочу платить, и у меня есть другая невеста, — пусть доносит, я не виноват. А только мне неприятно, что выйдет история, и это может повредить моему назначению.
— Она — известная шарлатанка, — сказал прокурор. — Она тут гаданьем занялась было, дураков морочила, да я сказал полиции, что это надо прекратить. На этот раз были умны, послушались.
— Она и теперь гадает, — сказал Передонов, — на картах мне раскладывала, все дальняя дорога выходила да казенное письмо.
— Она знает, кому что сказать. Вот, погодите, она будет петли метать, а потом и пойдет деньги вымогать. Тогда вы прямо ко мне. Я ей всыплю сто горячих, — сказал Авиновицкий любимую свою поговорку.
Не следовало принимать ее буквально, — это обозначало просто изрядную головомойку.
Так обещал Авиновицкий свою защиту Передонову. Но Передонов ушел от него, волнуемый неопределенными страхами; их укрепляли в нем громкие, грозные речи Авиновицкого.
Каждый день так делал Передонов по одному посещению перед обедом, — больше одного не успевал, потому что везде надо было вести обстоятельные объяснения. Вечером по обыкновению отправлялся играть на биллиарде.
Попрежнему ворожащими зовами заманивала его Вершина, попрежнему Рутилов выхвалял сестер. Дома Варвара уговаривала его скорее венчаться, — но никакого решения не принимал он. «Конечно, — думал он иногда, — жениться бы на Варваре всего выгоднее, — ну, а вдруг княгиня обманет? В городе станут смеяться», — думал он, и это останавливало его.
Преследование невест, зависть товарищей, более сочиненная им самим, чем действительная, чьи-то подозреваемые им козни — все это делало его жизнь скучною и печальною, как эта погода, которая несколько дней под ряд стояла хмурая и часто разрешалась медленными, скучными, но долгими и холодными дождями. Скверно складывалась жизнь, чувствовал Передонов, — но он думал, что вот скоро сделается он инспектором, и тогда все переменится к лучшему.
В четверг Передонов отправился к предводителю дворянства.
Предводителев дом напоминал поместительную дачу где-нибудь в Павловске или в Царском Селе, дачу, вполне пригодную и для зимнего жилья. Не била в глаза роскошь, но новизна многих вещей казалась преувеличенно излишнею. Александр Михайлович Верига ждал Передонова в кабинете. Он сделал так, как будто торопится итти навстречу к гостю и только случайно не успел встретить его раньше.
Верига держался необычайно прямо, даже и для отставного кавалериста. Говорили, что он носит корсет. Лицо, гладко выбритое, было однообразно румяно, как бы покрашено. Голова острижена под самую низкостригущую машинку, — прием, удобный для смягчения плеши. Глаза серые, любезные и холодные. В обращении он был со всеми весьма любезен, во взглядах решителен и строг. Во всех движениях чувствовалась хорошая военная выправка, и замашки будущего губернатора иногда проглядывали.