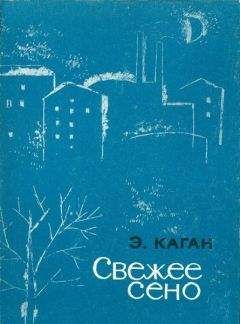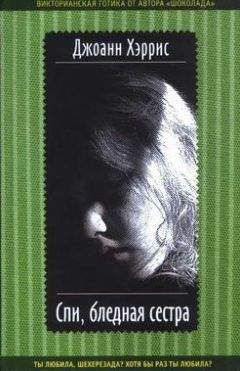Она мгновенно заснула. И проспала едва ли не сутки. И во сне… или нет, не во сне к ней опять пришел дикий зверь — волк ли, шакал… не знала. Он скалил зубы. Рычал. И рык его был глухим, клокочущим, грозным. Он сидел между двумя кроватями — Элиной и той, на которой прежде лежала Елена Сергеевна, а теперь Тася, и в нетерпении перебирал передними лапами. Словно ему не терпелось броситься и разорвать и одну, и другую, но что-то мешало. И он бесился от ярости. Ярость горела в глазах: бешеным, жутким огнем полыхали они… в них отражалось безумие. Ему приходилось сдерживать литую мощь своих мускулов, сидел, дергая головой, клацая пожелтелыми острыми клыками, и рычал. И словно натыкался на невидимую преграду, которая мешала кинуться и перегрызть им горло. И зло, которое переполняло его, было как кипяток, способный сварить его сердце…
Кто или что заставляло его оставаться на месте? Не нападать? Какая сила оберегала больную девочку и полуживую женщину? Тася знала: настанет время и она поймет. Как знала и то, что зверь предупреждал её. Его предупреждение было связано с их вновь обретенным домом. Он хотел до смерти запугать её, чтобы она не вздумала переезжать туда. Потому что там… там он загрызет их.
— Ах ты, гадина! — хриплым шепотом выговорила она, когда очнулась и открыла глаза. — Думаешь запугать нас? Не выйдет!
И тотчас почувствовала на себе Элин взгляд. Глаза дочери в призрачном предрассветном свете казались нечеловечески-огромными. Странный это был взгляд. Нет, он не был враждебным, но только… это была не Эля. Во всяком случае, не та Эля, которую знала Тася. На неё глядело какое-то странное незнакомое существо, глядело глазами Эли — ЧЕРЕЗ НЕЕ, и от этого было особенно неуютно. Эля выпростала руки из-под одеяла, потянулась к Тасе.
— Мама, доброе утро!
— Эльчик! — Тася сорвалась с кровати, бросилась к Эле, даже не надев тапочек…
Зверь исчез. Они обнялись. И девочка вдруг заговорила.
— Мама, как хорошо! Хорошо…
— Да, милая, да! Хорошо.
— Мы больше не расстанемся? Я тебя не отпущу.
— А мы и не расставались.
— Нет, вчера ты ушла. А потом спала. И стонала во сне. Ты узнала, да?
— Что узнала?
— Что-то хорошее?
— Ты же сама говоришь — я стонала…
— Ну и что? Это был просто сон. А сейчас глаза у тебя не такие — не грустные.
— Да, я узнала, девочка. Хорошее, очень! Только…
— Что?
— Нет-нет, все в порядке. Тебя ведь сегодня выписывают!
— Сегодня!
Эля вскочила, подлетела к окну, легкая, словно бы бестелесная… Распахнула. Сад вздохнул, потянулся к ней — ветками, дуновеньями, бликами света… Пел соловей.
Тася подошла к дочери, обняла. Они стояли так какое-то время, слушая соловья, утро, сад, пробуждающуюся жизнь… Впервые за догое-долгое время им обеим стало светло на душе.
А потом Эля подняла к маме просиявшее лицо… и Тася не сомневалась, что дочь знает ответ, хотя никто из персонала в больнице ни слова ей не сказал.
— Мам, теперь у нас есть свой дом?
Тася проглотила ком в горле. И крепко обняла дочь.
— Есть, милая. Есть!
— Это… она?
Тася кивнула.
И тогда Эля уткнула лицо в ладони, уронила голову матери на плечо и заплакала. И Тася молча гладила её волосы — совсем коротенькие, стриженные — ведь перед операцией их обрили наголо.
Где вы, Елена Сергеевна, вы видите это? — думала Тася. — Эту стриженную плачущую головку, которая так любит вас? Которая чувствует вас? И которую вы поняли так верно, так глубоко, что сумели проникнуть в её мечту — мечту о доме… Ведь сама я об этой её мечте только догадывалась. Услыхала однажды тихое: «Я хочу домой!» Вы подарили ей это. А сможем ли мы соответствовать этому дару? По плечу ли нам? Справимся? Ведь дом — он живой! Он может окрылить человека, а может сломать. Что таит в себе этот дар: победу или поражение?
Чуть приподняв голову, через плечо Эли она поглядела в сад. Налетел легкий ветер и на подоконник лег лепесток. Чуть розоватый, округлый лепесток яблоньки. Тася выглянула в окно. Там, внизу, чуть левей их окна росли яблони.
Но они ещё не цвели!
Она осторожно сняла лепесток с подоконника, поднесла к губам. Нежный, негаданный…
— Эленька, посмотри!
Та отняла ладони от зареванного лица, взглянула, ахнула…
Дверь распахнулась.
— Что, проснулись уже? Готовьтесь к обходу, сейчас профессор придет! - предупредила Маша, оживленная как всегда.
Засуетились, заметались — умываться, одеваться, готовиться. Наставал долгожданный час — час свободы!
— Да, чуть не забыла! — Маша задержалась в дверях. — Тебе, Эленька, письмо. Оно было в кабинете Бориса Ефимовича среди бумаг, и его в суете не заметили. Вот, держи-ка. — И она протянула Эле белый конверт.
И обе — и Тася, и Эля сразу поняли, чье это письмо. Эля минуту стояла, словно с силами собираясь, потом развернула белый плотный листок, исписанный мелким бисерным почерком. Прочитала. И протянула маме. Письмо Елены Сергеевны.
«Дорогая девочка! Ну вот, у тебя есть свой дом. Меня не благодари все, что дается, не нами послано. Скажу о нем несколько слов. Я в нем никогда не жила и даже его не видела. Он как бы не мой, видишь, странность какая! У этого дома не простая судьба. О ней тебе люди расскажут. Я знаю, он тебе понравится, это очень хороший дом! Помоги ему, он ждет твоей помощи. И не только он — местность ждет! Тебе многое доверено, у тебя сила большая теперь, так что за тебя я спокойна. Только помни: кому много дано, с того много и спросится. Будь внимательна ко всему. Не спеши. И учись слушать. Воду, деревья, людей… И ищи — ты должна найти то, что скрыто. Знаю, ты сможешь. И еще, помнишь я тебе говорила: надо собрать котомку радости и идти. Принести людям хоть малую толику, но своего! Чтобы было потом с чем постучаться у врат Небесных. Ну, вот, дорогая и все. Не прощаюсь с тобой. Тебе домой, а мне — стучаться у врат. Это радость! И последнее. Все, что узнаешь, увидишь, в сердце свое не впускай. Место там только для твоих близких, для Христа и Царицы Небесной. Вот с ними — живи. И для них. Поклон твоей матушке. А теперь поднимайся, лети, моя пташка! И не удивляйся, если, воплощенные наяву, к тебе явятся твои ожившие сны… Сны из прошлого. Твоя Елена.»
И после обхода врачи отпустили Элю на волю. Лети, пташка, лети!
Она не плакала, прощаясь со всеми, — плакала Тася. А Эля была на удивленье тверда и спокойна. Она поклонилась всем провожавшим по-русски — в пояс. И откуда только взяла этот исконный старинный жест, где углядела…
И кланяясь, и спускаясь по лестнице, садясь в такси, прижимала она к груди белый прямоугольник — письмо Елены Сергеевны. И в глазах её сияли высверки солнца, и глаза не глядели ни на кого — они глядели В СЕБЯ. Точно Эля боялась утратить то тайное, скрытое, что знала отныне.
Тася с детьми перебралась на остров в последнюю неделю мая, когда весь он стоял в цвету и белел посреди воды как фата невесты. Подплывая к нему на тарахтящем бойком катерке ранним утром и впервые увидав необъятную волжскую ширь, белые теплоходы, словно сон проходящие мимо, статую Матери-Волги возле плотины и сам остров — зеленый, в белом кипенье вишневых садов, в окаймлении полосы чистого желтого песочка, Тася замерла. Ни слова сказать, ни заплакать, ни засмеяться… такое величие и в то же время простота, задушевность такая открылись ей в этих местах.
Бросили трап на пристань — деревянную, на потемнелых столбах, и весь народ с катера начал спускаться на берег по крутой деревянной лестнице. Собственно, это была даже не лестница, а просто пара-тройка сколоченных досок с тоненькими поперечными плашечками вместо ступенек. И сходя, все крепко держались за поручни, не то не ровен час нога соскользнет. А у Таси обе руки были заняты, и в каждой — по неподъемному чемодану. Ну, она и рухнула! Нога с непривычки с перекладинки хлипенькой соскочила, поехала и она полетела вниз… И расшиблась бы, если б не человек какой-то, который у самой земли её подхватил. Дети закричали, Эля к маме кинулась, стала чемодан у неё вырывать… Но человек тот, мамин спаситель, крепкий детина с малость всклокоченной рыжей бородой и встопорщенными по-боевому усами… Так вот, он одной рукой маму перехватил, а другой дочь её отстранил и Тасю аккуратненько эдак наземь поставил. И рассматривал её как какую диковину, словно птицу заморскую в голубятню с сизарями, да турманами залетевшую… Тася смутилась, конечно, это ж надо было так нелепо на новую землю попасть… Тут ведь теперь о ней, небось, байки будут рассказывать: как скатилась на остров кубарем эта цаца московская…
— Ну как, цела? — хрипловатым густым баском поинтересовался рыжебородый. Впрочем, беспокойства особого не проявлял — и так видел, что цела-невредима. — Эх ты, вещей-то сколько у вас! И далеко вам?