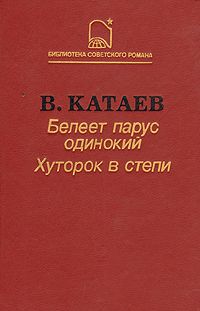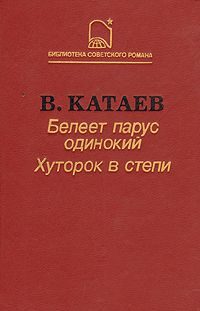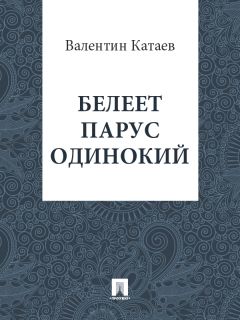– Дядя, хочете напиться? – спросил Гаврик.
Матрос не ответил. Он только бессмысленно повел глазами с мутной поволокой и пошевелил воспаленным ртом.
Мальчик подал ему дубовый бочоночек. Матрос отвел его слабой рукой, с отвращением проглотив слюну, и тут же его стошнило.
Голова упала и стукнулась о банку.
Потом матрос потянулся к бочоночку, нашарил его в потемках, как слепой, и, стуча зубами по дубовой клепке, кое-как напился.
Дедушка покрутил головой:
– История!..
– Дядя, откуда вы? – спросил мальчик.
Матрос опять проглотил слюну, хотел сказать, но только протянул руку вдаль и тотчас уронил ее в бессилии.
– Ой, ну его к черту! – пробормотал он неразборчивой скороговоркой. – Не показывайте меня людям… Я матрос… сховайте где-нибудь… а то повесят… ей-богу, правда… святой истинный…
Он хотел, видимо, перекреститься, но не смог поднять руку. Хотел улыбнуться своей слабости, но вместо улыбки по его глазам пошла поволока.
И он опять потерял сознание.
Дедушка и внучек переглянулись, но не сказали друг другу ни слова. Время было такое, что лучше всего – знать да помалкивать.
Они осторожно положили матроса на решетчатом настиле, в клетках которого хлюпала невычерпанная вода, подсунули ему под голову бочоночек и сели на весла.
Гребли они помаленьку, не спеша, с таким расчетом, чтобы добраться до берега, когда уже совсем стемнеет. Чем темнее, тем лучше. Они даже, прежде чем пристать, покрутились немного между знакомых скал. К счастью, на берегу никого не было.
Стояла теплая, глубокая тьма, полная сверчков и звезд.
Дедушка и внучек вытащили шаланду на берег. Таинственно зашуршала галька.
Дедушка остался охранять больного, а Гаврик сбегал посмотреть, нет ли кого поблизости.
Он скоро вернулся неслышными шагами. По этим шагам дедушка понял, что все в порядке. Они с большим трудом, но осторожно вытащили матроса из шаланды и поставили его на ноги, поддерживая с обеих сторон. Матрос обнял Гаврика за шею и прижал к своему, уже обсохшему, необыкновенно горячему телу. Он грузно навалился на мальчика, едва ли что-нибудь соображая.
Гаврик расставил ноги покрепче и прошептал:
– Идти можете?
Матрос ничего не ответил, но сделал, шатаясь, несколько шагов, как лунатик.
– Потихонечку, потихонечку, – приговаривал дед, поддерживая матроса за спину.
– Тут недалеко, дядя… два шага…
Они наконец поднялись на горку. Их никто не видел. А если бы даже и увидел, то вряд ли обратил бы внимание на белую шатающуюся фигуру, ведомую стариком и мальчиком. Картина известная. Пьяного рыбака ведут родственники до дому. А что рыбак при этом не ругается и не орет песен, так это просто потому, что уж чересчур много хватил монопольки.
Едва матроса ввели в пахучую, жаркую тьму хибарки, как он тотчас рухнул на дощатую койку.
Дедушка заложил окошко куском ящичной фанеры и плотно притворил дверь. Лишь после этого он зажег маленькую керосиновую лампочку без стекла, прикрутив фитиль насколько возможно короче.
Лампочка стояла в углу, на полке, покрытой старой газетой.
Там же были солдатский хлеб, завернутый в сырую тряпочку, чтоб не высох, кружка, сделанная из консервной банки, жестяная мисочка с солдатской кашей, две деревянные ложки, немного крупной соли в большой синей раковине мидии – словом, все это нищее, но необыкновенно аккуратное хозяйство.
Старая, до черноты закопченная икона св. Николая-чудотворца – покровителя рыбаков, прибитая в углу над полкой, смотрела продолговатым кофейным пятном древнего лика и жуткими глазами киевского письма.
Сейчас по этому вековому лицу снизу вверх струились легкая копоть и свет лампочки. Лицо, казалось, живет, дышит…
Давно уже дедушка не верил ни в бога, ни в черта. От них он не видел в жизни своей ни добра, ни зла. А в Николая-чудотворца верил.
Да и как же не верить в святого, помогающего человеку в его тяжком и опасном ремесле? Ведь ничего не было в жизни дедушки важнее рыбацкого ремесла.
Но, по правде сказать, последнее время чудотворец стал что-то сдавать. Когда дедушка был помоложе, имел хорошую снасть, парус, силы, чудотворец – ничего, помогал. Был от чудотворца в хозяйстве кое-какой толк. Но чем старее становился дед, тем меньше было толку и от святого.
Конечно, если паруса нет в рыбацком хозяйстве, если силы у старика с каждым днем убывают, если денег не хватает на мясо для наживки, то будь ты хоть самый распрочудотворец – рыба пойдет мелкая, никудышная… И нечего от человека требовать.
Видно, и чудотворцу нелегко идти против старости и бедности.
Все же старику становилось подчас горько и обидно смотреть на строгого, но бесполезного святого. Правда, есть-пить он не просит, висит в углу смирно. Ну, да уж пусть висит: авось когда-нибудь и поможет. Со временем у старика вошло в привычку снисходительное, даже как бы несколько насмешливое отношение к чудотворцу.
Возвращаясь после лова в хибарку – а лов теперь по большей части был из рук вон плох, – дедушка ворчал, искоса поглядывая на смущенного чудотворца:
– Ну что, старый хрен, опять мы с тобой сели? Такую мелочь привезли, что на привоз совестно нести. Не бычки, а воши.
И он добродушно прибавлял, для того чтобы не окончательно унижать угодника:
– Да что! Разве ж настоящий крупный бычок на креветку пойдет? Настоящему сытому бычку на креветку плевать. Ему надо мясо, настоящему, сытому бычку. А где мы его возьмем с тобой, мясо-то? Его чудом не купишь? Вот то-то!
Однако сейчас старику было не до угодника. Его сильно беспокоил матрос. И не столько его жар и беспамятство, сколько предчувствие смертельной опасности, угрожающей ему неведомо откуда.
Разумеется, дедушка кое-что соображал, кое о чем догадывался. Но все же, чтобы помочь человеку, надо бы знать побольше.
А матрос, как на грех, лежал в забытьи, разметавшись в жару по лоскутному одеялу, и смотрел перед собой открытыми, но ничего не видящими глазами.
Одна его рука свесилась с койки, а другая лежала на груди. На ней дедушка рассмотрел голубой якорек.
По временам матрос пытался вскочить; мыча и обливаясь горячим потом, он грыз в беспамятстве руку, как бы стараясь выгрызть якорь, точно, не будь этого якоря, ему сразу бы полегчало.
Дедушка силой укладывал его обратно, обтирая ему лоб и приговаривая:
– Ну, ляжь… Ляжь, я тебе говорю… И спи, не бойся… Спи!
Гаврик на огороде кипятил в казанке воду – напоить больного чаем. То есть не чаем, а, вернее сказать, той душистой травкой, которую дедушка собирал в мае на окрестных холмах, сушил и употреблял вместо чая.
Ночь прошла очень тревожно.
Матрос рвал на груди рубаху. Ему было душно.
Дедушка потушил коптилку и отворил дверь, чтобы впустить свежего воздуха.
Матрос увидел звездное небо и не понял, что это такое. Ночной ветерок влетел в хибарку и освежил его голову.
Гаврик лег на бурьян возле двери, прислушиваясь к каждому шороху. До утра мальчик не сомкнул глаз. Отлежал локоть. Дедушка устроился на земляном полу хибарки и тоже не спал, слушая сверчков, волну и стоны больного, который иногда вдруг взволнованно вскакивал, крича слабым, прозрачным голосом:
– Башенное, огонь! Кошуба! Бей, башенное!..
И всякую другую чепуху.
Тогда дедушка крепко брал его за плечи, осторожно тряс и шептал в самый его рот, дышащий жаром:
– Ляжь, не кричи. За-ради самого господа бога, не бузуй. Ляжь и молчи. Наказанье!
И матрос понемножку утихал, поскрипывая зубами.
И кто же такой был этот странный больной?
В числе семисот матросов, высадившихся с броненосца «Потемкин» на румынский берег, был Родион Жуков.
Ничем замечательным не отличался он от прочих матросов мятежного корабля.
С первой минуты восстания, с той самой минуты, когда командир броненосца в ужасе и отчаянии бросился на колени перед командой, когда раздались первые винтовочные залпы и трупы некоторых офицеров полетели за борт, когда матрос Матюшенко с треском отодрал дверь адмиральской каюты, той самой каюты, мимо которой до сих пор страшно было даже проходить, с той самой минуты Родион Жуков жил, думал и действовал так же, как и большинство остальных матросов, – в легком тумане, в восторге, в жару, – до тех пор, пока не пришлось сдаться румынам и высадиться в Констанце.
Никогда до тех пор не ступала нога Родиона на чужую землю. А чужая земля, как бесполезная воля, широка и горька.
«Потемкин» стоял совсем близко от пристани.
Среди фелюг и грузовых пароходов, трехтрубный и серый, окруженный яликами, яхтами и катерами, рядом с тощим румынским крейсером он был бессмысленно велик.
Высоко над орудийными башнями, шлюпками, реями все еще висел белый андреевский флаг, косо помеченный голубым крестом, как перечеркнутый пакет.