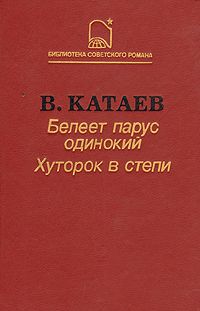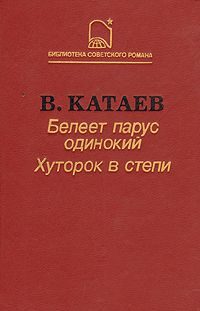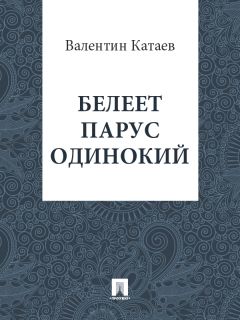Высоко над орудийными башнями, шлюпками, реями все еще висел белый андреевский флаг, косо помеченный голубым крестом, как перечеркнутый пакет.
Но вот флаг дрогнул, опал и короткими стежками стал опускаться.
Обеими руками снял тогда Родион бескозырку и так низко поклонился, что кончики новых георгиевских лент мягко легли в пыль, как оранжево-черные деревенские цветы чернобривцы.
– Просто срам… Чистый срам! Орудия двенадцатидюймовые, боевых патронов хоть залейся, наводчики один в одного. Даром Кошубу не послушались. Дорофей Кошуба правильно говорил: кондукторов, паршивых шкур, – за борт! «Георгия Победоносца» – потопить. Идти на Одессу высаживать десант. Весь бы одесский гарнизон подняли, всех бы рабочих, все бы Черное море! Эх, Кошуба, Кошуба, было бы тебя послушаться… А то такая ерунда получилась!
В последний раз поклонился Родион своему родному кораблю.
– Ладно, – сказал он сквозь зубы, – ладно. За нами не пропадет. Все равно всю Россию подымем.
Через несколько дней, купив на последние деньги вольную одежду, он ночью переправился через гирло Дуная, возле Вилково, на русскую сторону.
План у него был такой: добраться степью до Аккермана, оттуда на барже или на пароходе в Одессу; из Одессы до родного села Нерубайского – рукой подать. А там – как выйдет…
Одно только знал Родион наверняка: что к прошлому для него все пути заказаны, что прежняя его жизнь, подневольная матросская жизнь на царском броненосце и трудная родная крестьянская жизнь дома, в голубой мазанке с синими окошками среди желтых и розовых мальв, отрезана от него навсегда.
Теперь – либо на виселицу, либо скрываться, поднять восстание, жечь помещиков, идти в город искать комитет.
Он почувствовал себя худо еще в дороге. Но останавливаться было уже нельзя. Он шел больной.
И вот теперь… Что это с ним происходит? Где он лежит? Почему в дверях качаются звезды? И звезды ли это?
Черным морем обступила Родиона ночь. Звезды сгустились, разгорелись и легли перед глазами низкими карантинными огнями. Зашумел город, загорелась в порту эстакада, побежали люди, путаясь в бунтующем огне. Длинными рельсами упали вдоль мостовых железные винтовочные залпы.
Качнулась ночь корабельной палубой. Зеркальный круг прожектора побежал по волнистому берегу, добела раскаляя углы домов, вспыхивая в стеклах, выдергивая из темноты бегущих солдат, красные лоскутья флагов, зарядные ящики, лафеты, поваленные поперек улицы конки.
И вот он видит себя в орудийной башне.
Наводчик глазом припал к дальномеру. Башня поворачивается сама собой, наводя на город пустое дуло, сияющее внутри зеркальными нарезами. Стоп! Как раз точка в точку против синего купола театра, где осанистый генерал держит военный совет против мятежников.
В башне канителится жидкий телефонный звонок.
А может быть, это сверчки воркуют в степи?
Нет, это телефон. Электрический подъемник с медленным лязгом выносит из погреба снаряд – он качается на цепях – прямо в руки Родиона.
А может быть, это не снаряд, а прохладная дыня? Ах, как хорошо было б напиться! Но нет, нет, это снаряд.
– Башенное, огонь!
И в тот же миг зазвенело в ушах, словно ударило снаружи в башенную броню, как в бубен. Вспыхнул огонь, и обварило запахом жженого гребня.
Дрогнул рейд во всю ширь. Закачались на рейде шлюпки. Железная полоса легла между броненосцем и городом.
Перелет.
Разгорелись у Родиона руки. Но вот опять сверчки хрустальным ручейком пробираются среди частых звезд и бурьяна.
А может, это воркует телефон?
И второй снаряд сам собой лезет из подъемника в руки матроса. Доконаем генерала, погоди!
– Башенное, огонь! Башенное, огонь!
– Ляжь, не кричи… Может, тебе дать напиться? Ляжь тихо…
…И вторая полоса легла поперек бухты. Опять перелет. Ничего, авось в третий раз не промажем! Снарядов небось хватит. Полны погреба.
Легче пушинки и вместе с тем тяжелее дома лег в ослабевшие ладони третий снаряд.
Только бы пустить его поскорее. Только бы дым повалил поскорее из синего купола. А там и пойдет, и пойдет!..
Но что-то не воркует телефон, перестали звенеть сверчки… Поумирали там все наверху, что ли?
Или это утро наступает такое тихое и такое розовое?
Башня словно сама собой поворачивается обратно. «Отбой!» – и снаряд, выскользнув из упавших рук, опускается обратно в погреб, гремя цепями подъемника. Нет, нет, это покатилась из пальцев кружка и нежно журчит водица с койки на пол.
И тишина, тишина…
«Да что ж это такое? Эх, продали, продали волю, чертовы шкуры! Сдрейфили! Уж если бить, так бить до конца! Чтоб камня на камне не осталось!»
– Бей, башенное, бей!..
– Ох, господи, господи, святой чудотворец Николай! Ляжь, выпей еще воды. Несчастье!..
Слабая, розовая тишина утра нежно и успокоительно прилегла к воспаленной щеке Родиона. Далеко на золотистом обрыве кричали петухи.
Дедушка и внучек обсудили положение и решили, что больного покуда не следует никому показывать. Тем более не следует отправлять его в городскую больницу, где обязательно спросят паспорт.
По мнению дедушки, у матроса – обыкновенная, не слишком даже сильная горячка, которая скоро пройдет. А там пускай сам себе обдумает.
Между тем уже совсем рассвело, и надо было опять выходить в море.
Больной не спал. Ослабевший от ночного пота, он неподвижно лежал на спине, глядя живыми, сознательными глазами на образ чудотворца с пучком свежих васильков, заткнутых за согнутую от времени темную доску.
– Чуешь? – спросил дедушка, подходя к больному.
Тот слабо пошевелил губами, как бы желая промолвить: «Чую».
– Полегчало?
Больной в знак утверждения прикрыл глаза.
– Может, ты хочешь кушать?
Дедушка покосился на полку с хлебом и кашей.
Матрос слабо качнул головой: «Нет».
– Ну, как хочешь. Слухай, сынок… Нам надо выходить в море по бычки, чуешь? Так мы тебя здесь оставим одного и запрем на замочек. Можешь нам свободно доверять. Мы такие же самые люди, как ты, – черноморские. Чуешь? Ты себе тута тихонечко лежи и отдыхай. А если кто-нибудь постучится, так ты просто молчи, и больше ничего. Мы с Гавриком зараз управимся и тоди быстренько вернемся. Я тебе тут в кружечке воду поставлю: захочешь, так напейся, это ничего. И ни об чем не думай, можешь вполне надеяться. Ты чуешь?
Старик разговаривал с больным, как с несмышленым ребенком, через каждые два слова приговаривая: «Чуешь?»
Матрос смотрел на него улыбающимися через силу глазами и прикрывал их изредка: дескать, не беспокойся, понимаем, спасибо.
Заперев матроса, рыбаки отправились на промысел и часа через четыре возвратились назад, найдя дома все в полном порядке. Больной спал.
На этот раз им повезло. Они сняли с перемета сотни три с половиной прекрасных, крупных бычков, и дедушка, благосклонно посмотрев на чудотворца и пожевав морщинистыми губами, заметил:
– Ничего. Сегодня ничего. Хотя и на креветку, а крупные. Дай бог тебе здоровья.
Но чудотворец, в полном сознании своего могущества, смотрел на деда строго и даже высокомерно, как бы желая сказать: «А ты еще сомневался, хреном называл. Сам ты хрен».
Дедушка решил сам идти с бычками на привоз. Надо было наконец выяснить отношения с мадам Стороженко. А то что ж это такое получается: сколько ни носи товара, все равно остается долг, а живых денег не видно!
Так и рыбачить, выходит, неинтересно.
Сегодня для этого представлялся самый подходящий случай. Не стыдно показать товар. Бычки – один в одного.
Гаврику, конечно, тоже бы хотелось сходить сегодня на привоз, чтобы на обратном пути повидаться с Петькой и наконец выпить на углу квасу.
Но опасно было оставлять матроса одного, так как было воскресенье: на берег, наверно, понаедет множество народа из города.
Дедушка взвалил на плечо еще мокрый садок и пошлепал на привоз, а Гаврик переменил в кружке воду, прикрыл матросу ноги, чтоб не кусали мухи, и, навесив на дверь замок, отправился немножко пройтись.
Тут совсем недалеко, на берегу, находились различные увеселительные заведения: ресторанчик с садом и кегельбаном, тир, карусель, будки с зельтерской водой и восточными сладостями, автоматы-силомеры – словом, маленькая ярмарка. Походить по ней и поглазеть было для мальчика настоящей радостью.
Обедни еще не отошли. Вверху, над обрывами, плыл колокольный звон приморских церквей.
Ветер, совершенно не ощутимый внизу, иногда плавно проносил по небу белоснежное облако, такое же круглое и яркое, как этот звон.
Гулянье по-настоящему еще не начиналось, но несколько нарядно разодетых горожан уже слонялись возле карусели, ожидая, когда же наконец снимут с нее парусиновый чехол.
Из кегельбана доносилось медленное чугунное ворчанье тяжелого шара, пущенного по узкой дороге. Шар катился ужасно долго, его шум все слабел и слабел, пока вдруг, после короткой тишины, не долетало из-за ограды, поросшей желтой акацией, легкое музыкальное щелканье рассыпавшихся кеглей.