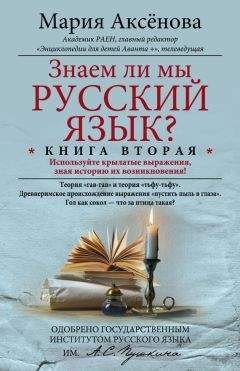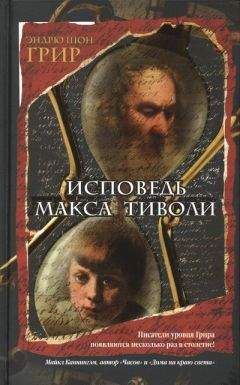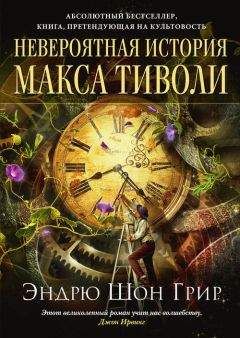был изолирован от опасностей внешнего мира. Как ты не сломался, зная, что стоит соседу тебя увидеть, и к вечеру сюда явится весь город, тебя вымажут желтой краской и будут стучать в кастрюли в ярости на уклониста, трусливого афроамериканца? Знаю, ты изучил каждое сражение этой войны, каждый корабль с темнокожими солдатами на борту, отправленный через океан и разлетевшийся в мелкие щепки. Ты следил за цифрами потерь, как другие мальчишки следят за бейсбольной статистикой, – я знала, это для того, чтобы прикоснуться к настоящему миру, дать ему себя ранить, почувствовать себя живым. Ты жил в зазеркалье, в дупле дерева, в мире без смерти, созданном для тебя женщинами.
Я навещала его в тюрьме, оклеенной газетными вырезками. Приходила несколько раз в неделю с нотной тетрадью в руке. Его мать садилась внизу, одна, и играла на дрянном пианино – предполагалось, что я беру уроки музыки. Играла всегда одно и то же: «Где или когда». А я поднималась наверх, к ее сыну. Всегда приносила книги, спрятанные в нотной тетради, – кажется, я перебрала всю библиотеку. И мы читали вместе, в тишине или перешептываясь, пока не приходила пора мне возвращаться в странный солнечный мир, которого он не видел.
Я помню каждый угол твоей комнаты. Конечно, я ведь была влюблена. Лассо, висевшее у окна, словно змея. Твою железную кровать, крашенную в гигиеничный белый цвет, провисшую, как тюремная койка. Не отбрасывающую тени статуэтку – индейца на коне. Твою куртку с медными заклепками, которую я одалживала холодными вечерами. Еще я помню твое лицо в тусклом свете, улыбку, расцветавшую, когда я приходила. Твой молчаливый силуэт у закрытой шторы: широкоплечий, с тощими ногами и отросшими волосами. Как ты одними губами говорил: «Привет» – и жестом приглашал сесть рядом. Я вверила твою комнату памяти. Сказала себе: мол, это для того, чтобы в пасмурные дни можно было ориентироваться в душной темноте, как в игре в жмурки. На самом деле – для того, чтобы потом, лежа в своей кровати, можно было закрыть глаза и представить, что я рядом с тобой в этой тихой лисьей норе, ставшей твоим миром. Я любила тебя без памяти.
Любил ли ты меня? Было трудно не думать о этом, лежа без сна в те ночи после прихода Базза Драмера и вспоминая месяцы в твоей темной комнате. В каком-то смысле, вероятно, любил: как лев любит дрессировщика, как монета любит карман. Но не так, как я надеялась. Не так, с ужасом осознала я, как ты любил этого белого мужчину.
Но по крайней мере была романтика. Детская романтика, перерастающая в подростковую: вот мы сидим рядом, день за днем, вот возня с книжками переходит в возню с руками. Это же мечта моей юности – чтобы меня заперли в комнате с тобой, с красавцем Холландом Куком, но, когда она сбылась, я не знала, что делать. Юные неумелы в любви. Словно вам подарили аэроплан, и вы прыгаете в кабину, готовясь взлететь, как всегда мечтали, но только понятия не имеете, как его завести и тем более сдвинуть с места. Вот так и мы в той сырой комнате. Глядели друг на друга, а закат освещал шторы, словно киноэкран, и одна щель пламенела красным. Это задало тон будущей совместной жизни – сидение в закупоренной комнате, чтение вслух шепотом, страх разоблачения. Не это ли заставило тебя жениться на мне, гадала я. Дети, прячущиеся от государства, от сердитого отца.
Его мать и я выполняли связанные с войной обязанности. Каким-то образом ей удавалось обходиться одним комплектом карточек и вести дела на ферме, не вызывая подозрений. Она взбивала олеомаргарин, чтобы тот больше походил на масло, и собирала стручки ваточника с обществом «Чернокожие женщины в помощь фронту» (для солдатских пуховых жилетов), а я заказала плакат и повесила его в окне – синий дом и большие красные буквы: ЭТО ДОМ ПОБЕДЫ – МЫ ЭКОНОМИМ, КОНСЕРВИРУЕМ И ОТКАЗЫВАЕМСЯ РАСПРОСТРАНЯТЬ СЛУХИ! Мы не просто изображали сознательных граждан тыла, чтобы получше спрятать нашего ненаглядного мальчика. Мы были хорошими людьми, мы были готовы есть фальшивый яблочный пирог, чтобы у мальчиков на фронте были настоящие яблоки. Это была справедливая война. Только не наша.
Холланд, ты кивал, когда мы говорили тебе, что чернокожих используют как пушечное мясо: либо их отправляют на смертельные задания, либо посылают работать в столовые, где они взлетают на воздух вместе с белыми парнями, которых обслуживают. Тебя нельзя винить. Пусть тогда винят и остальных, кто прятался, – мужчин, которые занялись ловом трески ради отсрочки, и женщин, подделывавших продуктовые карточки, чтобы испечь свадебный торт. Все мы до какой-то степени готовы на обман, а ты делал это вовсе не ради куска сливочного масла. Позже ты все отработал.
Не заболей он, мог бы переждать всю войну. Я сидела в темноте у его постели, держала огненно-горячую руку, шептала ему: держись, держись, – а его мать, ополоумев от горя, все спрашивала меня: «Что делать, Перли, что нам делать?» В конце концов перед самым рассветом я объявила, что нам нужно позвать врача. Я приняла это решение в одиночку. Однако донес не врач. Врач оказался добрым, старомодным белым, он пах виски, лечил больные зубы жидким каучуком и накладывал швы из кетгута с точностью, унаследованной от матери-белошвейки. Донесли соседи – они слышали, как утром к дому подъехала машина, и видели на пороге совершенно здоровую вдову, которая жестами приглашала зайти в дом. Не прошло и суток, как приехала полиция с армейским офицером, и Холланда выволокли из дома, еще в испарине, и посадили в «форд», а я истошно кричала, высунувшись в окно гостиной, словно из меня по живому выдирали нервы. В моем представлении я его убила.
– Тебя мать заставила это сделать, парень? – спросил Холланда офицер. Он сидел в идеально квадратной комнатке с одним длинным окном. На замерзшем стекле моталась туда-сюда тень остролиста.
Нет-нет, отвечал Холланд, не глядя на него. Затем он указал, что, собственно, ничего не сделал – наоборот, кое-что не стал делать. Мать ни слова ему не сказала.
– Это ты из философских убеждений?
Он сказал, что не знает,