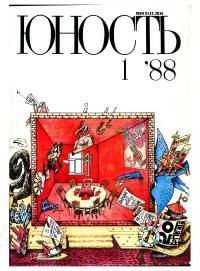- Да?!..- воскликнула Даринька, взглянув на Кузюмова «осветляющими глазами».- Пречистая просветила потемнение в ней…
- Вы мне верите?..- сказал Кузюмов, как бы прося, чтобы она верила ему.- Вам… я могу говорить лишь правду. Все сейчас говорили там…- махнул Кузюмов к городу,- что она в первый раз за эти годы заплакала! Вот сейчас, как мы проходили сюда в толпе. Народ тут, говорят, с самого утра толпится, чего-то ждет. Когда наш чудесный русский Мазини, Александр Иванович… Вы, дорогой, несравненней итальянца! ка-ак вы спели «Лучинушку»!.. ваше здоровье!..- Он чокнулся с Артабековым.- И как раз она проходила с отцом и остановилась послушать… и - заплакала!.. Все говорили: «Гляньте, Настенька наша плачет!..» Она будто бы не могла плакать, была как закостенелая. Это на моих глазах было. И ее отец, лавочник, тоже заплакал и стал креститься. Она показалась мне очень привлекательной! Как-то показывали мне ее, еще до «помраченья»… ну, мещаночка-красавка… чиновнички называли «дуська». А сегодня… никакой мещаночки, а, просто… девочка… дева… как вот пишут чистых…- Кузюмов чуть отклонился на стуле и посмотрел на Дариньку,- светильник, лилии… Словом, преображение, или, по-здешнему, проявление. Мне пьяненький почему-то пальцем грозился и кричал: «Проявле-ние, барин… про-я-вле-ние!..»
Кузюмов извинился, что позволил себе в таких подробностях коснуться такого - для него - «захватывающего случая». По его словам, для него самого было непонятно, почему это так его захватило. Не скрыл, что он вообще никакой в этой… да, важной области человеческого духа… хотя много преувеличенного о его «шутках», он это отлично знает.
- Поверьте, мне было бы очень… досадно, если бы вы принимали все, как здесь накручивают…- сказал он с оттенком горечи даже, обращаясь к Дариньке,- но, к счастью, вы - не все, в чем я отлично убедился, слыша из ваших уст. Верите, Дарья Ивановна, что я говорю совершенно открыто, искренно?..
- Верю,- сказала Даринька.
- Благодарю вас…- поклонился Кузюмов.- Извините, я отошел от поднятого мной текущего, в связи с войной. С вашего позволения. могу я к вам побывать, и мы обсудим, что надо предпринять?..
- Да…- занятая чем-то своим, рассеянно ответила Даринька.
Виктор Алексеевич поспешил поправить ее оплошность:
- Пожалуйста, заезжайте… это, конечно, очень нужно… Дарья Ивановна не раз говорила, что мы должны облегчатъ страдания… это ее душевная потребность. Мы сумеем организовать и пробудить общественность… очень важно.
Разговор перешел к войне. Осман-паша, говорят, разбил нашу дивизию, а в газетах хоть бы слово. Что точно известно?..
- По последней депеше штаба, Осман-паша не разбил, а отбил атаку пятой дивизии генерала Шульднера…- сказал Кузюмов. - Как раз вчера у меня был проездом раненый офицер-волынец, едет к семье… Как раз под первые пули угодил, когда форсировали Дунай, в ночь на пятнадцатое июня. Коньяку?.. Пожалуйста. Вы не позволите?.. предложил он Дариньке.- Эти «наши корреспонденты»! Все, что они пописывают, надо принимать, как говорится… «кум грано салис» (1). Сотни примеров. Да вот, на днях… помните?.. во всех газетах мы читали… «Геройской смертью пал ротмистр лейб-гвардии гусарского Его Величества полка, князь… Дмитрий Вагаев»?..- отмерил он.
(1) С осторожностью (лат.).
Виктор Алексеевич почувствовал, как холодная рука Дариньки сжала его руку. Кто-то сказал: «Да, да… было… а что?..»
- «Пал геройской смертью…» Воображаю, как отозвалось в Питере, он там гремел. И что пережила моя тетушка, его мать, в своей Тамбовщине! А на самом деле мой милый Дима… только ранен, хотя серьезно.
Виктор Алексеевич почувствовал, как Даринька выпустила его руку, и услыхал вздох. Он взглянул на нее: она сидела как окаменевшая, но ее лицо слабо розовело.
- Дайте… каплю…- сказала она Кузюмову, наклоняя лафитничек. Кузюмов поспешно налил. Она пригубила.
- Вы, кажется, встречались?..- спросил Кузюмов Виктора Алексеевича.- Дима не раз поминал вас… Вейденгаммер, если я не ошибаюсь?
- Как же, мы вместе учились в пансионе моего отца, да и потом видались. Добрый малый, восторженный немножко…
- Сорвиголова. Да, фантазер, романтик… немножко поэт, и не без таланта. И порядочно образованный. При своем донжуанстве как-то ухитрялся находить время почитывать. Женщины были от него без ума. Был даже один дворцовый романчик, чуть не сломавший его блестящую карьеру. Правда, красивый малый, с некой остротцой… статный, чудесные черные глаза!.. Представьте, какая же насмешка: теперь кривой.
- Кри…вой!.. - воскликнула невольно Даринька.
- Пуля пробила глаз.
Даринька передернулась.
- Глаз вытек,- продолжал спокойно-повествовательно Кузюмов,- но пулька осталась в голове. И он пишет мне с волынцем: «Прибавил весу… на пульку». Поедет к маме, заедет ко мне, проездом. Да… спрашивает, далеко ли от меня вы… он почему-то знает, что вы «где-то недалеко от Мценска».
- Он заезжал к нам перед отъездом на войну… меня не застал… Дарья Ивановна видела его и сообщила, что и мы уезжаем…- сказал Виктор Алексеевич.
Кузюмов хотел что-то спросить у Дариньки, но только чуть скользнул взглядом по ее неподвижному лицу и не спросил.
- Как подлечится, думает опять… «весу добирать».
Замороженный «Кремль» был великолепен. Кузюмов куда-то собирался - «к десяти, по делу». Спрашивал Дариньку, не скучно ли ей здесь «после Москвы». Она отвечала неохотно, чувствовала себя усталой. Подсел Караваев и стал сказывать ей смешную сказочку, что теперь там, в реке… какой переполох у раков!.. Не видывали такого «великана»…- и так отлично рассказывал, представляя в сценах и с мимикой, что улыбалась и Даринька. Рассказывали Кузюмову «неповторимое» и «непередаваемое». Пожалел Кузюмов, что не видал. Синели сумерки, но с реки еще отсвечивало зарей. «Касьяныч» засветился фонариками, жгли бенгальский огонь, щелкали ракеты. Просили Артабекова еще петь. «Раз такое «галя» (1)…- мотнул он за реку, где чернело по берегу народом. Запел из «Аскольдовой могилы»: «Уж как веет ветером…» Пели и хором, под звезды выносил «русский Мазини»:
(1) Торжественный концерт (франц.)
…Ра-азовьем мы бе-э-резу…
Ра-зовьем мы ку-удряву…
Было к полуночи. Кузюмов, давно собиравшийся уехать,- «к десяти, по делу одному..,» - прощаясь, сказал Дариньке: «Душу отогрели»,- и можно было понять, что говорит о песнях. После его ухода Виктор Алексеевич пригласил всех отпраздновать новоселье в ближайшее воскресенье.
Тройка несла ночными полями, в звоне. Даринька молчала, спрятав лицо в букет гардений и магнолий.
Виктор Алексеевич удивлялся, как Даринька свободно говорила на обеде, и особенно - как сравнительно легко приняла известие о Вагаеве. По разным соображениям он так и не сказал ей, что Дима убит, как прочитал в газетах, когда ехали из Москвы. Теперь само сказалось. И хорошо, а то бы она могла подумать, что нарочно он выдумал о смерти. Услышав, что Дима жив, но «окривел», он почувствовал спокойствие. В этом «спокойствии» было что-то тревожащее совесть, признавался он, и он избегал смотреть Дариньке в глаза. Когда она молчала по дороге из города, его мутило: потрясена известием, больно ей.
- Я не мог понять, что во мне: рад ли, что теперь «больше ничего не будет», или - что Дима жив… Она почувствовала, взяла мою руку и сказала: «Я так спокойна, милый… так надо было, и мы должны принять это, как Его милость нам… ты мог подумать, что я жалею о нем… нет, я рада за него и за нас». Она успокоила меня этим, и я понял, что и я рад, что Дима жив. Моему «спокойствию» содействовало, конечно, и то, что он окривел, каюсь. И я соглашался с ней, что «так надо» и что это нам милость…
Насколько она была выше моей душонки!.. Тою же ночью я убедился, насколько она была и глубже, мудрей… Дорогой я перебирал все случившееся на обеде. Ее разговор с Кузюмовым поразил меня, как, думаю, и всех. Да и самого Кузюмова. Он вдруг переменил тон превосходства и стал… затрудняюсь определить: приятней, ясней?.. Все отмечали эту перемену. Да и случай с «избавлением рака»… это было действительно «неповторимое». Я спрашивал себя, почему в таком глупом опыте юнца произошло то, чего, казалось, никогда бы не могло быть? Почему все, после первых рюмок настроенные на шутки, вдруг притихли и были изумлены? бьюсь об заклад, что все, и я в том числе, ожидали, когда она схватила вилку, что она эту вилку… вонзит в рака! - и я испугался, что она не в себе. Потому испугался, что видел безумно-восторженное лицо ее, какую-то… безудержную решимость. А произошло совсем иначе, по вдохновению, «неповторимое и непередаваемое», как сказал метко Караваев. Сто женщин в подобном случае сделали бы, как всегда в таких шутках: одни возмутятся дикостью, другие высмеют шутника, отнимут рака… ну, залюбопытствуют, как «аплодирует» рак, как дерзатель станет жевать «прямо со скорлупой». А тут был дан урок, и как целомудренно и властно. И вот почему притихли: почувствовали творческое сердце, красоту душевного движения. Это было то же «проявление». И эта дивная робость, смущенье, это «исподлобья», это сознание какой-то вины… Какой вины? А вот какой: «Мне стыдно, что я, совсем необразованная, должна была показать вам, какие вы… какие все мы». Стыдно за творческое движенье сердца! Вот чему изумились все. И потому этот… эти два «просящих прощения» поклона. Вдумайтесь-ка, наполните эти поклоны содержанием! Тут - головокружительная высота. И через наиглупейший пустяк! Как же не почувствовать радостно паренья Духа - в «персти»?! А случай с юродивой, уже известный иным из сотрапезников, жившим в городе, еще поспособствовал эффекту. Мы-то и не знали. Все знали, и в Уютове уже знали, как я удостоверился после, и на Поповке знали, и в Кузюмовке знали… и, я не постигаю, почему-то сдерживались сказать нам прямо. Боялись, что ли, ввести в смущение Дариньку? не верили? Первым сказал Арефа, но сказал прикровенно, сдержанно, как бы спрашивая себя, можно ли сказать прямо. Открыл Кузюмов, несколько с усмешливой улыбкой и сейчас же был удивительно тонко выправлен. Прорываясь сквозь толщу тревожных дум, слагалось во мне нечто: «Странная вещь, зачем-то надо было, чтобы открывшееся народу «проявление» закрепилось всенародно и на глазах никакого в вере Кузюмова «слезами умягчения», вызванными родною песнею, тут, рядом с пиром?» Все было не случайно, подумалось мне тогда же, в ночи, дорогой. А Даринька ясно видела. Все это творило в нашей душе «спокойствие». В ту ночь, бессонную от мыслей, я сознал, какой дар послан был мне в темную мартовскую ночь, когда я решил кончить с «бессмысленной жизнью, кoгда, идя бульваром, я повторял пушкинские стихи: «Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана?..» И мне был послан дар, и этим даром приказано было мне: живи и познай.