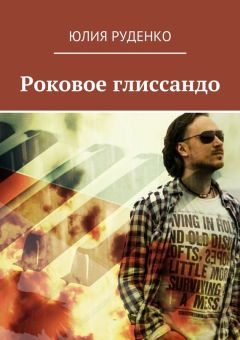– Мне кажется, – проговорил Гни, – что за аргументами незачем шарить по книгам. Они вот тут, – на моей тарелке: ясно, рот – чтобы есть. А остальное все так – припутано.
– Мой добрый друг, – закачал головой Инг, – не следует искать доводов среди объедков. Почему же припутано?
– Потому, – отвечал Гни, предварительно влив в себя добрую пинту вина, – что если б мы с тобой не пили и не ели, то смерть давно развела бы нас – меня в рай, тебя в ад – и согласись, на таком расстоянии тебе трудно было бы спрашивать, да мне незачем отвечать.
– Мне жаль ангелов, – вмешался в спор Ниг, дернув ус над пухлой и алой губой, – если им когда-нибудь придется тащить в горние выси вот этакую тушу. Пойми, простец, что не будь на земле поцелуев, не было бы и рождений. А если б никто не родился, то некому было бы и умирать. Понял?
Но Инг, не скрывая улыбки сострадания, перебил обоих:
– И ты, Ниг, прав только в том, что называешь неправым Гни. Чем губы какой-нибудь шлюхи лучше тарелки, полной объедков? Будем рассуждать строго логически: поскольку при поцелуе рту нужен другой рот, то этим самым вводится категория другого, ιο ετερον, как выражался Платон. Это отодвигает вопрос, вместо того чтобы его решить. Теперь по порядку: не будь вкушения пищи, не было бы жизни – так; но не будь поцелуев, не было бы рождения живых, – и это так; но – слушайте со вниманием – не скажи Господь слов «да будет» – не родилось бы само рождение, не возникло бы ни жизни, ни смерти и мир пребывал бы дьявол его знает где. Я утверждаю (оратор даже стукнул кулаком о стол), что истинное назначение рта не в шлепанье губами о губы, не в пожирании яств и питий, а в проглаголаньи слов, дарованных свыше.
– А если так, – не унимался Гни, – то почему же в Писании сказано, что не входящим в уста, но исходящим из уст сквернится человек? Что ты мне на это ответишь?
Отвечать стали сразу и Инг и Ниг, вперебой друг другу, и спор затянулся бы до света, не приди сон, залепивший спорщикам глаза снами, рты – храпом.
В сновидении Ингу явилось чудовищное трехротое существо, – беспрерывно шевелившее шестью губами: Инг пробовал существу доказывать, что оно не существует, но отвратительный трехротыш, говоря сразу всеми своими ртами, не давал себя переспорить. Инг проснулся в холодном поту. За окном алела тонкая прорезь зари. Он стал будить своих товарищей. Ниг, едва продрав глаза, спросил, где Игнота; Гни, подумав, что это название кушания, угрюмо пробормотал: «Съели». Ниг захохотал и, объяснив, что это имя его вчерашней подруги, добавил:
– Вернее, она нас съела. Ловко было спрошено. Нет, куда она исчезла?..
– Как призрак, – докончил Инг, – если верить сну, то твоя Игнота слишком много знает: может быть, это и не девка, а суккубус – наваждение, тень.
– Черт возьми, – ухмыльнулся Ниг, – эта тень отдавила мне колени. Расскажи сон.
И из сна спор вернулся, будто и он отоспался и отдохнул, назад в явь. Три рта кричали вперебой о главном назначении рта:
– Чтобы есть.
– Врешь – чтоб целовать.
– Оба врете. Чтобы говорить. И тут я, знаете, бросаю весла и доверяюсь течению: ведь зачем мне измышлять, посудите сами, зачем трудолюбиво скрипеть уключинами, раз я догреб до того мощного течения, которое само понесет мой сюжет, вместе с сюжетами о «кривде и правде», о странствующих браминах «Панчатантры» и прочих прочестях: то есть я хочу сказать, что Инг, Ниг и Гни, не доспорившись ни до чего, отправляются во славу канонов сюжетосложения бродить по свету, прося у всех встречных разрешить их спор. Нелогичность этих странствующих споров, житейская неоправданность их не должна смущать того, кто знает, что жизнесложение и сюжетосложение лишь скрещиваются, но не совпадают. Сюжетика бросает эти споры, как растение бросает споры: в пространство, где они прорастают. Итак – плыву…
– Да, вы плывете, – Зез гневно ударил каминными щипцами по головешкам – искры прянули навстречу удару, – плывете, но не на книжном ли шкапу, набитом осыпью букв? Должен вам сказать, друзья мои, что за последнее время от всех ваших замыслов разит типографской краской: один берет набитые буквами книги в «персонажи» своих новелл, другой, изволите ли видеть, «бросает весла» (кстати, труднее и придумать более обстуканную о все типографские станки метафору), чуть его втянуло в чернильный поток сюжетокропательства, – этак мы скоро…
Жилы Фэва налились кровью:
– Вы слишком трусите книжного переплета: меня ему не захлопнуть, потому что я… не мышь. Я не побывал, как иные, в знаменитых писателях, и алфавит для меня не приманка, – а вот…
Но тут Зез, сделав знак молчания, круто повернулся ко мне:
– Наш спор я предлагаю на суд нашего гостя: со стороны ему виднее и легче быть справедливым.
Все глаза были на мне. И я ответил:
– Этим вы превратите ваш спор в «странствующий спор», против допустимости которого только что сами возражали.
– Отказанный гамбит, ловко сыграно. С дороги, Зез, посторонись и дай пройти моим трем героям, туда, куда им давно уже пора. Ведь заря ширится. Того и гляди, проснется хозяин и потребует за ночевку и битую посуду. А во всех карманах ни медяшки. Инг, Ниг и Гни вышли на цыпочках из «Трех королей». Городок еще спал, зажмурив ставни, а навстречу уж, с мешком и колокольцем на конце палки, двигался сборщик-монах. Он протянул свою звякающую суму, но вместо милостыни получил вопрос:
– Для чего тебе дан Богом рот: для пищи, поцелуев или речи?
Монах перестал встряхивать мешком, колокольчик замолчал, молчал и он. Ниг заглянул под капюшон.
– Это камедул, – присвистнул он, – мы сразу же наткнулись на обет молчания. Твое дело плохо, Инг. Ведь это почти ответ: святость обходится без слов.
– Да, но она налагает на себя и посты. Кроме того, думается мне, целовать шлюх – это тоже мало помогает спасению души. Выходит, что рот вообще ненужная дыра на лице, которую надо поскорей заштопать и жить в ус себе не дуя. Нет, тут что-то не так. Идем дальше.
Вновь зазвякавший колокольчик и трое спорщиков разминулись. У городских ворот Ингу, Нигу и Гни повстречалась глухая старуха; как ни кричали ей – сначала в один, потом в два, наконец, в три голоса вопрос о рте, она все твердила свое:
– С черным пятном на лбу. Корова. Не видали ли? Черное пятно на лбу. Корова.
– У всякого своя забота, – вздохнул Инг.
В это время, ржаво скрипя, распахнулись створы городских ворот. Мои трое начали странствование.
Пройдя пару лье, они встретили грохочущую телегу, на которой, свеся ноги, с краюхой хлеба меж губ, раскачивался длинный детина. Инг крикнул было ему вопрос, но из-за грохота колес детина вряд ли расслышал, а если и расслышал, то рот его был слишком забит, чтобы решать проблему о рте. Шагали дальше.
К полудню меж качаемых ветром колосьев увидели странника: на плече у него был мешок, в руке посох, он шел с веселым – сквозь пыль и загар – лицом, пересвистываясь с перепелами: может быть, это был один из странствующих клириков (лицо его было тщательно выбрито), возможно, даже, – ваш о. Франсуаз, –
– обернулся вдруг рассказчик к Тюду и приветственно поднял правую руку кверху. Тюд, улыбнувшись, сделал ответный жест: две темы, как корабли, чьи рейсы пересеклись, отсалютовали друг другу – и Фэв продолжал.
– Отчего у человека один рот, а не три? – спросил, поклонившись клирику, Ниг.
Спрошенный остановился и оглядел странников. Сначала он ополоснул горло из винной фляги, болтавшейся у него на ремне, затем подмигнул и сказал:
– А вы уверены, дети мои, да пребудет благодать Божья с нами, что у вас так-таки по одному рту? Когда я уйду, спустите штаны и проверьте: не два ли. А если доберетесь до ближайшего веселого дома, – любая девка докажет вам, что три. Добрый путь.
И, зашагав своими длинными, затянутыми в дорожную юфть, ногами, о. Франсуаз быстро скрылся из виду и из рассказа.
– А ведь поп хотел нас одурачить, – зачесал в затылке Гни.
– И чисто сделал дело, – сплюнул с досадой Ниг.
– Дурачить, – ответил Инг, – это забавляет только дураков. Людские умы стали грубы и плоски – как вот это поле: гоготать легче, чем мыслить. Где логизмы великого Отагирита, где дефиниции Аверроэса и иерархия идей Иоганнуса из Эригены? Люди разучились обхождению с идеями: вместо того чтобы смотреть идее в глаза, они норовят заглянуть ей под хвост.
И трое молча продолжали путь.
Навстречу изредка попадались крестьяне, возвращающиеся с работ, купцы, дремлющие под звон бубенчиков на своих мулах. После встречи с голиардом решено было соблюдать осторожность и не обращаться с вопросом к каждому встречному и поперечному. После дня ходьбы вдали, над пригнувшимися к земле маслинами, показались зубчатые стены города. Пыль и жар опадали. Цикады в траве пели громче, а солнце из неба светило тише. Почти у самых ворот города, на зеленой лужайке, примыкавшей к дороге, странники увидели женщину, сидевшую на траве, среди шуршания цикад, со спеленутым ребенком на руках. Женщина не сразу ответила на приветствия путников, так как была занята своим: расстегнув грудь, она приблизила розовый сосок к рту младенца, тотчас же жадно задвигавшего губами, и, наклонившись, с улыбкой всматривалась во вздувшееся личико сосуна.