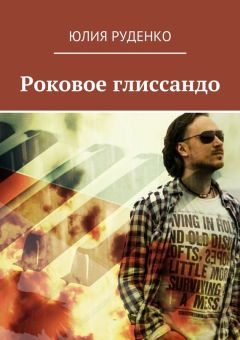– Клянусь гусем, – рявкнул Гни, – спеленайте меня, потому что мне захотелось молока.
Ниг только облизал губы. А Инг, покачав головой, сказал:
– Если не вся истина, то две трети ее открыто младенцем: поглядите на этот крохотный беззубый ртишко, – ему дано то, что не дано нам – умение сразу и есть, и целовать. Этот несмышленыш заставляет меня, о друзья мои, возвратиться мыслью от этих скудных и пыльных слов к пышным кущам райского сада, где все было дано человеку не частями и не враздробь, а целостно и полно. Но райские рощи отцвели, и трем смыслам, увы, стало тесно в одном рте. Скажите, милая, чей это ребенок?
– Я служу супруге здешнего судьи. Имя моей госпожи Фелиция, – отвечала кормилица.
Поднявшись с земли, она поклонилась чужестранцам и пошла назад к городу. Ниг послал ей вслед воздушный поцелуй. Друзья решили, перед тем как войти в город, передохнуть здесь же на лужайке. Сели. Гни жевал в зубах пахучую травку. Ниг сдувал одуванчикам их серые шапочки. Инг, охватив руками худые колени, раз за разом вздыхал, бормоча что-то под нос.
– О чем ты там? – спросил наконец Гни, которого начинал уже мучить голод.
– Ах, – отвечал Инг, вздохнув еще раз, – я вспоминаю о словах, которые я ей говорил.
– Кормилице? – зевнул Ниг.
– Нет, ее госпоже. Счастливые люди, нашедшие причал. Может быть, и я не шлялся бы с вами от костра к костру, а грелся бы у своего очага, в карманах у меня катались бы талеры, а вокруг ползали бы вот этакие крохотные пискуны… Да-да, не смейтесь, а послушайте-ка лучше историю, которую сейчас расскажу.
Мы оба были тогда юны – и я, и Фелиция. Она была дочерью разбогатевших купцов, живших неподалеку отсюда в одном из приморских городов. У родителей было много мешков с золотом, у дочери – много поклонников. По праздникам, разрядившись в богатое платье, они садились вкруг прекрасной Фелиции и молча пялили на нее глаза, неподвижные и глупые, как мешки, набитые трухой. Все эти парни умели лишь разевать рот, а я знал и иное его употребление. Я рассказывал юной девушке о странах, в которых не бывал, о книгах, в которые и не заглядывал, о звездах и о светляках, о рае и аде, о прошлом народов и о будущем нас двоих: меня и Фелиции. Девушка любила слушать меня, наставив прозрачное розовое ушко и полураскрыв свои алые губки: однажды, вся закрасневшись, она посоветовала мне поговорить с ее родителями. С этими, конечно, было труднее. Когда я попробовал, подкрепляя слова цитатами из Горация и Катулла, объяснить скряге-богатею вечные права страсти, – тот присвистнул и показал мне спину.
Тогда, посоветовавшись с Фелицией, я решил пробраться к счастью в обход. У Фелиции была старая нянька: долгими уговорами удалось добиться ее участия в нашем плане. Решено было так: в назначенную ночь Фелиция вместе с нянькой придут ко мне. Нянька останется за порогом стеречь нас, а Фелиция… ну, одним словом, к утру мы поставим старых дураков перед свершившимся, после чего священнику придется наспех связать нас и на небесах, а скрягам, проспавшим дочь, развязать мешки с золотом. В условленный вечер я услыхал стук в дверь, – и через минуту мы остались с Фелицией в полутьме, за закрытой дверью, одни.
– Ну-ну, – заторопил Ниг, пододвинувшись на локте к рассказчику.
– Ну, и я начал шептать ей о величии и значении этой ночи, о том, что мы наконец одни, что даже звезды за окном потупили очи и что только Бог…
– Дурак, – сказал Ниг и отполз на локте на старое место.
– Я говорил ей о прославленных любовниках древности – о Леандре и Геро, о Пираме и Фисбе, о Феоне и Сафо. Впрочем, спохватился я, почувствовав прикосновение ее руки к моим губам, если примеры язычников ей кажутся неубедительными или опасными для души, то можно обратиться и к свидетельствам Ветхого Завета, – и я начал припоминать, книга за книгой, о Руфи и Воозе, о… Помню, как раз на Воозе меня прервал шум за дверью. Приоткрыв ее, я увидел: старуха нянька, сидевшая с ухом, прижатым к замочной скважине, успела задремать и слегка похрапывала. Я разбудил ее и, вернувшись к Фелиции, продолжал оборванный рассказ.
– Дурак, – простонал Ниг и, заткнув уши пальцами, лег ртом в землю, а Гни, дожевав свою травку, спросил:
– И вы не проголодались?
– Нет, во мне теснилось столько красноречивейших любовных строф, изысканных метафор и гипербол, что я не замечал, как текло время. Уж небо за окном стало чуть сереть, когда я перешел к завлекательнейшему «Ars amanti»[8] Назона, пробуя передать изящнейшие утонченности Овидиевой эротики, этого удивительнейшего искусства ловить мгновения, искусства выкрадывать счастье, борьбу за поцелуй, объятие, за… Она сидела, ставшая видимой мне в сумерках рассвета, сурово сжав губы и почти отвернувшись от меня. Я спросил, что с ней? Не отвечая, Фелиция подошла к двери и громко постучала.
– Идем, – сказала она няньке, и голос ее дрожал от непонятного мне гнева, – идем, может, удастся вернуться незамеченными. Скорей.
– Постойте, – закричал я, теряя всякое понимание, – а как вы докажете, что были у меня?
Но Фелиция не замечала меня, как если б мои слова потеряли всякий звук и смысл.
– Скорей, – воскликнула она, – и если мне удастся вернуться к ложу не узнанной никем, даю обет: избрать в мужья самого молчаливого из всех, кто меня захочет.
И они скрылись в мгле предутрья, не оглядываясь на мои крики. После этого мы не встречались.
– Ну вот видишь, – зазлорадствовал Ниг, – пойми ты подлинное назначение рта, и история твоя не кончилась бы так печально.
– Она еще не кончилась, – возразил Инг, подымаясь с земли, – конец ее ждет меня вот за этими воротами.
И трое вошли в город.
Ночь пришлось провести без крова. Гостиница была заполнена паломниками из соседних городов, пришедшими поклониться чудотворной иконе, которой был прославлен городок. Притом карманы друзей были пусты, и ночью их мучили голодные сны.
Наутро мимо них потянулась цепь паломников: Инг попробовал было преградить им дорогу вопросом о ртах, но те шли, погруженные в молитвы и с пальцами, впутанными в четки. Тогда трое примкнули к процессии и вскоре очутились перед сверкающей золотом риз и блеском драгоценных камней иконой: Ниг поцеловал ризы, Гни, наклонившись к лику, ловко выкусил самый крупный камень из оправы, а Инг, взглянув на него искоса, громко сказал, ударяя себя в грудь; «Меа culpa, mea culpa, mea maxima culpa»[9]. Через два-три часа в карманах у Инга, Нига и Гни – чудесным образом – зазвенели золотые монеты.
Начать пить легко – кончить трудно. Скоро вокруг трех пришельцев захлопали пробки и забулькало вино. Сначала пили сами, потом угощали, затем принимали угощение, опять угощали и так до звезд и ночной колотушки сторожа. Когда под лавками стало людней, чем на лавках, Гни пополз на четвереньках, пробуя в раскрытые, как воронки, рты храпящих вливать вино, Ниг лез целоваться с печной заслонкой и замочной скважиной, а Инг, хитро подмигивая и похохатывая, рассказал о чудесном превращении камня в золото. Рассказ имел успех, его стали повторять и за порогом кабака. А наутро Инг, Ниг и Гни, проснувшись, не могли даже протереть глаз, так как руки их были закованы в колодки.
Судья, к которому привели их по делу о краже драгоценного камня, был самым молчаливым человеком в округе: он оглядел их, порылся носом в бумагах и снова молча уткнулся в них глазами. Тогда Инг, не слыша вопросов, переглянулся с товарищами и спросил сам:
– Достопочтеннейший господин судья, как ни тревожат нас обстоятельства, приведшие к вам на суд, но еще более тревожит нас троих вопрос: для чего создан рот? Один из нас утверждает: для поцелуев. Другой: для еды. А я говорю: для произнесения слов. Мы пришли сюда издалека в поисках ответа. Наша свобода и жизнь в ваших руках, но прежде, чем умереть, мы бы хотели знать: для чего даны людям рты?
Судья пошевелил губами, почесал пером нос и снова врылся в бумаги. А через минуту зазвучала труба гарольда и секретарь суда, поднявшись торжественно с места, прочел приговор:
«Признав виновными, освободить из-под стражи, отдав под надзор всех, кто видит и слышит. Осужденному, именем Инг, воспрещается говорить; осужденному, именем Ниг, воспрещается целовать; осужденному, именем Гни, воспрещается есть. Всякий, заметивший нарушение вышеназванных запретов, обязуется немедленно донести о таковом, после чего нарушитель запрета должен быть немедленно схвачен и предан смерти. Решение действительно с момента оглашения. Обжалованию не подлежит».
С несчастных сняли оковы и выпустили их на свободу. Сотни злорадных улыбок тотчас же окружили их со всех сторон. Они шли рядком, точно с замазанными ртами, не отвечая на насмешки и ругань горожан.
– Что ты скажешь на это? – спросил наконец Ниг, повернувшись к непривычно молчаливому Ингу, и тотчас же осекся.
Инг пугливо огляделся по сторонам, губы его было дрогнули, но он сжал их крепче и покорно понурил голову. Завернули в таверну. По знаку Гни им подали блюдо с дымящимся мясом: Инг и Ниг взялись за ложки и тотчас же их опустили: бедный Гни сидел, отвернувшись, у края лавки, жадно глотая слюну. На минуту он поднял свои глаза – в них блестели слезы.