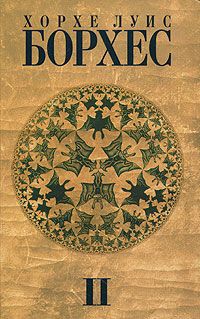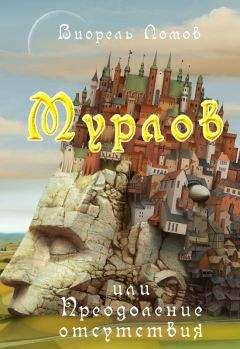концепций! А как мне нравилось качаться в люльке! Прораба чуть кондрашка не хватил от моих художеств на высоте девятого этажа. Я на краю люльки стою, люлька перекосилась, того и гляди опрокинется, одной рукой я за канат держусь, другой – малюю. И песни пою. Я-то высоты ничуть не боюсь (Орлам ли бояться высоты? – сказал Боб), а вот ему на меня смотреть было страшно. И он мне снизу орет, что уволит меня на хрен, а я сверху плюю на него. Так и общались. И вот как-то надоело мне все до чертиков и намалевал я свои греческие символы на глухой стене мединститута. Крупно намалевал, красок не пожалел, имя свое прославил и загудел, куда – сам не понял. Там, куда загудел, меня, помню, какой-то вражина пытал, помню ли я момент своего появления на свет. Пытает меня, а сам визитку сует, чтобы я, значит, лечился у него. Хренхрейн какой-то. Из Бахрейна. Я ему и ответил: а как же, помню! Рожа твоя, дядя, мне больно знакома. Она мне в тот миг весь божий свет застила. И я эту визитку сжевал и выплюнул. Понятно, сказал дядя, агрессивность оттуда. Оттуда, согласился я, и туда же его отправил. Меня, соответственно, отправили в другую сторону. Через полгода освободился, а в люльку-то, хрен, меня уже и не пускают. Это меня-то не пускать? Вле-ез, влез я в люльку, глянул сверху на все это пресловутое прогрессивное человечество, со всякими ООН и ЮНЕСКО, и тут охватил меня такой сладкий ужас высоты, что я не вытерпел и – полетел! Ах, какой это был полет! Какой полет! Все мои чувства за всю прожитую жизнь разом вдруг спрессовались вот тут возле яблочка. И такой восторг был… Не прав Горький: рожденный ползать – летать может! Еще как может!.. Я понимаю, что поддался искушению дьявола, но в полете, ребята, в полете я сказал: лечу к тебе, Господи! Он, конечно, ничего мне не ответил, но по тому, как легко я летел, я понял, что Он меня принял и простил. Можно, конечно, было и не пьянствовать, чтоб не доводить до трагедии, но тогда Дионис превратил бы всякого непьющего в летучую мышь – это такой фонарь, а Штраус не написал бы о ней оперетту.
Мы выслушали Бороду с должным почтением и дружно, но односложно сказали: «Н-да-а… Наверное, оттуда…», а Боб, когда Борода вышел куда-то, высказал предположение, что у Бороды с его Брательником это, наверное, семейная черта. Особенно убеждал в этом Штраус с фонарем «летучая мышь».
– Не знаю, когда у меня едет крыша, я, чтобы не уехать вместе с ней, обычно иду за пивом.
– Выбирай: со стопарем или без, нетопырем, – дружно произнесли мы с Рассказчиком, а Боб крякнул и побежал на угол в гастроном.
– Тебе Хренхрейн из Бахрейна никого не напоминает? – спросил у меня Рассказчик.
После первых «вздрогнули!» Боб развернул газету и со слезами на глазах стал читать нам о последних достижениях науки в области сельского хозяйства. Эта область давно перекрыла границы области и таки достала уже всех ее жителей.
Рассказчик, который для профилактики заглянул в «Авиценна-центр», рассказал, что центр успешно проводит лечение змеиным ядом путем укуса пациентов живыми змеями, а для лечения бронхиальной астмы и ревматических болей применяет кислородные подушки, наполненные ветрами энерготерапевтов.
– Ты смотри, некоего Панурга назначили руководителем управления Галерского округа Государственного надзора за весом граждан (УГО ГНВГ), – прочитал Боб. – А дальше одна политика. Сколько ее! Ты смотри, сколько политиков вокруг! – зашуршал газетой Боб. – Ступить негде. А не удариться ли и мне в политику? Это в туннеле она выглядела несколько идиотически, а здесь могут возникнуть радужные перспективы. Буду лоббировать ваши интересы в конгрессе.
– Идиот! – поморщился, как от лимона, Борода. – Выйди вон на пригорок и ударься лучше в собачье дерьмо!
– Идиоты, идущие в политику, вовсе не идиоты, – поправил его Рассказчик. – Идиотами в Древней Греции называли как раз тех, кто в политику не шел. А насчет собачьего дерьма ты прав: оно лучше.
Под такие новости пришлось еще пару раз бегать на угол. Вечером, умиротворенные принятым, мы сидели в креслах холла и смотрели по телевизору круглый стол «Первый свободный человек Вселенной». Признаться, нас заинтересовала тема. Плохо выбритый телеведущий сообщил о том, что впервые в мировой практике были приняты роды при полете роженицы под куполом парашюта. Затем он представил главного акушера «Авиценна-центра». Тот скоренько познакомил зрителей со своей теорией, согласно которой люди когда-то были птицами и пора, наконец, возвращать их к полету, как естественному состоянию человека.
– Зачатие, роды, жизнь, смерть – все должно происходить на лету в воздухе!
Первенец Вселенной в это время, распеленатый, лежал в центре стола, сучил ножками, глядел на умных взрослых и слушал их важные для всего человечества речи. Разочаровавшись в пустышке, он выплюнул ее и, потужившись, обкакал дядям весь круглый стол.
Вечером мы с Герой отправились на прогулку. Наши азартные друзья не захотели отрываться от преферанса и мы пошли вдвоем. Погода была чудная. Мы молча брели по пустынным улочкам и изредка перебрасывались односложными предложениями. Иногда слова только мешают, как пыльный ветер в лицо. Нам обоим было уютно друг с другом, я чувствовал это. На старом трехэтажном доме, выкрашенном в ядовито-радостный зеленый цвет, красовалась оранжевая вывеска: «Камера находок – не проходите мимо». Мы зашли, раз приглашают. Дверь была двойная – наружная стеклянная, с колокольчиком, и внутренняя бронированная, взятая на электронную защиту. Охранника, однако, не было, а за конторкой стоял сухощавый старичок с пытливым взглядом маленьких и хитрых, как у мышки, глаз. Перед ним лежала раскрытая амбарная книга, исписанная чрезвычайно мелким почерком, а на широкой тумбе, справа от него, стоял «Пентиум» со всеми своими причиндалами. Там же располагался и приличный «Ксерокс».
– Добро пожаловать, господа. Ищем что-нибудь или так?
– Или, – ответил я. Гера тоже кивнула головой и улыбнулась.
– Что ж, я удовлетворю ваше любопытство, – промолвил старичок, глядя одновременно одним глазом на Геру и другим на меня.
Старичок мне напомнил старинного знакомого моей юности, он работал прорабом на стройке и звали его странно: Виорэль. Он был косоглазый, но совершенно не стеснялся этого. «Смерть с косой и я косой», – говорил бывало. Он любил подозвать к себе кого-нибудь из новеньких и, глядя в одну сторону, а рукой показывая в противоположную, отдавал приказание: возьми вон там лопату и отнеси ее вон туда. И когда новичок бестолково тыкался, не видя, где лежит лопата и куда ее нести, Виорэль начинал страшно