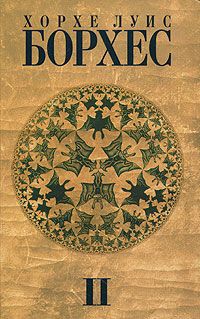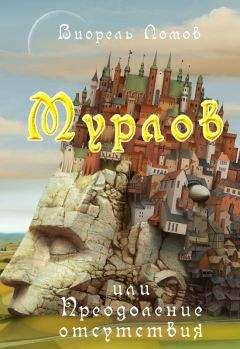помассировала – и боль ушла, чувствовалась лишь теплая тяжесть ладоней. В животе у нее что-то пискнуло. Гера засмеялась:
– Это пищит мое сдавленное желание.
Я просунул руки под простыню и положил их Гере на вздрогнувший живот. Уши мои, я чувствовал это, горели. И весь я горел, как в огне. И снова я ничего не помнил, а утром Гера опять сказала, что все было хорошо. Слова ее повергли меня в смятение, я был уверен, что на этот раз у нас с ней точно ничего не было. Хоть пломбу в другой раз ставь, усмехнулся я. Или пояс верности. Впрочем, это не укрощает, а только распаляет страсть.
Когда я сел на постели, свесив ноги и недоумевая, куда же подевались мои доспехи, я машинально посмотрел в окно, увидел воронку и вспомнил все вчерашние события, и почувствовал смутное беспокойство. В воронке что-то темнело, острым углом поднимаясь вверх, как острие канцелярской кнопки.
– Смотри, – сказала Гера, – оно движется, – она обняла меня и я сразу же успокоился. Я вспомнил, как она обнимала меня тогда, в первую нашу ночь. Точно так же, как и во вторую. У ласки нет эпитетов. И, холодея, вспомнил какие-то предыдущие ночи. Я закрыл глаза, но воспоминания не обрели от этого ясности.
Оно, острие, в самом деле двигалось, на глазах увеличиваясь в размерах и поднимаясь все выше и выше. Было похоже на камень или обломок скалы. Рассказчик, когда увидит, наверняка назовет его краеугольным камнем мироздания. Будет ли только он созидающим камнем?
– Что-то мне это не очень нравится, – сказала Гера. – Как-то тревожно. Растет и растет. И будет расти без конца.
– В природе ничего не бывает без конца. Вырастет. Окаменеет. Потом разрушится или прольется чем-нибудь. И снова станет маленьким.
– Ах ты какой, – погрозила мне пальчиком Гера. – Не помнит он ничего!..
Вечером, когда мы утомленные вернулись с садовых участков старых знакомых Геры, мы увидели, что на месте острия выросла приличная остроконечная скала. Она продолжала расти и ночью, так как утром занимала уже половину окна. Это была даже не скала, а настоящая гора в несколько сот метров диаметром.
– Кончит расти, поедем на нее загорать, – сказала Гера, прыгая на меня и валя обратно в постель. – Она такая же теплая, как ты. Ты куда это? А утренняя молитва? Клади-ка руки сюда…
Через два дня сформировался остров в его окончательных очертаниях. На него никто не рисковал высадиться, так как чувствовалось, что еще что-то произойдет. Еще через три дня невидимые гигантские руки стали мять остров, как пластилин, вылепив из него то ли подкову, то ли постоянный магнит, полюсами направленный в сторону Дворца. Средства массовой информации по-прежнему не придавали этому странному явлению никакого значения. Видимо, в нем не было ничего экстраординарного. Посередине острова был хорошо виден кратер неопределенной глубины, диаметром никак не меньше километра. Плоский срез острова проходил где-то на высоте Дворца, а из кратера ровно в шесть часов вечера вырвался на высоту телевизионной башни первый столб пара и пепла. Подул сильный ветер, пригнул упругий столб к воде и понес его на Дворец. Пошел черный теплый снег. Отдельные снежинки были громадные, как бабочки, и такие же живые. Все попрятались по домам. По стеклам ползли черные бабочки, шевеля крылышками и заглядывая к нам в номер. Они шуршали и липли к стеклам, оставляя все меньше и меньше пространства для обзора.
– Мне страшно, – сказала Гера, поджав под себя ноги. – Мне очень страшно. Смотри, они уже облепили все окно. Они сейчас выдавят стекла, ворвутся к нам, облепят нас, – Гера передернулась. – Они такие мерзкие, липкие и теплые. Это Бог наказывает нас.
Глухо заурчало где-то ниже дворцового подвала, ниже озерного дна, зазвенели висюльки в люстре, с противным скрипом отворилась дверца шкафа, с тумбочки съехала книжка и, зацепив ключи, упала вместе с ними на пол, произведя такой грохот, что казалось, рухнула скала в ущелье. Гера прижалась ко мне. Видимо, нервы ее были напряжены до предела.
– Сейчас треснет окно, – в ужасе прошептала Гера. – Занавесь его покрывалом.
Я прикрепил покрывало к багету. В окне была сплошная чернота. Она лежала мертвым слоем, не шевелясь, не вспархивая крылышками, только молча и злобно давила на стекло. Что там творилось на улице – трудно было даже представить. Тишина наступила мертвая. Молчал город. Молчал Дворец. Молчали подземные и небесные силы. Молчали мы. Все будто прислушивалось к неслышным кошачьим шагам невидимой черной опасности.
– Как там наши ребята? – сказала Гера.
– Позвать?
– Не надо. Это Бог наказывает нас, – эта мысль не оставляла ее. – Нет, не человечество, не Галеры. Что ему человечество? Что ему Галеры? Что нам они? Он наказывает нас. Нас с тобой. Меня и тебя. За наши грехи, за наши и ничьи больше. Обними меня. Я столько пережила из-за тебя…
Я смотрел ей в глаза. В них больше не было лун, в них была ласка, для которой, как я сказал, нет эпитетов.
– Бог не наказывает, – сказал я. – Бог не препятствует нам наказывать самих себя.
В это время по булыжнику мостовой проскакали лошади. Они, должно быть, вырвались из загона в цирке, что был за углом, и бешено неслись, скорее всего, навстречу своей погибели. Судя по доносившимся звукам, пепла на мостовой было мало. Может быть, его сдул ветер.
– Лошади понесли, – задумчиво сказала Гера, оставаясь в плену своих невеселых мыслей.
Я попытался развлечь ее и стал говорить, что «лошади понесли» – не совсем то, что «понесли носилки» или «понесли дань», совсем не то, что «понесли чушь», а скорее всего, то же, что и «понесли девушки».
– Не неси околесицу, – улыбнулась Гера. – Дурачок. Ты становишься похож на Рассказчика.
– Ничего удивительного, – возразил я. – Мы уже столько времени с ним вместе. Уже и на брудершафт пили. Раз сто.
– Ну что ты вскочил? Сядь. Посиди рядом. Я успокаиваюсь рядом с тобой. Это самый лучший вид близости, когда успокаиваешься. Господи! Как, оказывается, все просто.
– При этом виде близости никому ничего не должен.
– Ты боишься кому-то задолжать?
– Да, я боюсь не успеть вовремя вернуть долги.
– Ты дурачок в квадрате. В кубе. В энной степени дурачок, вот ты кто. Любовь не берет в долг, не возвращает долги. Ей ничего не надо. У нее все есть. Ты думаешь, мне что-то нужно от тебя? Да кроме тебя, ни грамма другого. Вот ты много читал… Ты ведь много читал?
– Я все больше думал. Даже когда читал, я думал, что читаю. А сам уставлюсь в открытую страницу