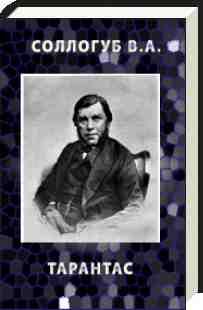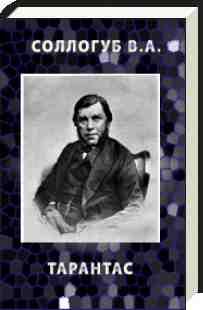— Да я доползу… спаси Христос… у меня ноги привычные… Стеснять еще вас…
— Ну, садись, садись, чего там! — покровительственно воскликнул Терентий, дружески подмигивая отодвигавшемуся в угол тарантаса пассажиру Василию Евстафьичу.
Парийский поколебался несколько мгновений, кинул взгляд на свои ноги… и с особой деликатной осторожностью стал одной калошей на подножку. Глядя, как он медленно лез и медленно усаживался на скромном местечке — не рядом с Василием Евстафьичем, а ниже, спиной к нему, свесив ноги наружу, Терентий снисходительно усмехнулся:
— Тоже… в калошах!..
— Да ты бы повыше, Сема, — сказал дружески-небрежным тоном пассажир: — неловко ведь…
— Нет, не беспокойтесь. Ничего, славно… Просто, даже как вольтерское кресло…
— Еще острит, подите же, — подумал пассажир не без удивления. — Изгнан из второго класса духовного училища а ученых слов где-то набрался.
Терентий тряхнул вожжами, опять затрещал тарантас, и в поле зрения Василия Евстафьича тряслась уже не одна спина кучера: ниже ее тихо и покорно заколыхалась спина Парийского, сутулая, с плечами дугообразно согнутыми к груди.
— Откель идешь? — крикнул Терентий, обернувшись к Парийскомy.
Сиплый голос прокричал что-то в ответ, но за треском тарантаса нельзя было разобрать. Кучер придержал лошадей, и, когда они пошли шагом, Парийский повторил:
— Ходил к благочинному.
— По какому делу?
— По требованию. Архирейскую резолюцию объявить.
— В счет чего?
— Заходил я прошением к архирею насчет псаломщицкого места.
— В дьячки думаешь? Что ж, дело не плохое в дьячки, — снисходительно одобрил Терентий Прищепа.
— Кормиться чем-нибудь надо… Архирей положил резолюцию: для практики в Преображенский монастырь на полгода — объявить просителю.
— Ваканция добрая — в дьячки… Старайся. Табак имеешь?
— Обязательно…
Парийский сунул руку за пазуху и вытащил свернутый газетный лист. Василий Евстафьич достал кожаный портсигар и, вынув из него две папиросы, молча подал их товарищам. Парийский суетливо черкнул спичкой. Огонек вздрогнул, трепетно заметался по трем лицам, одновременно нагнувшимся к нему, и в его мгновенном свете каждому из товарищей показались вдруг знакомыми и близкими черты других, беспощадно измененные временем, но не утратившие давних, забытых и теперь неуловимо мелькнувших своих каких-то особенностей, им одним свойственных. Да, они… несомненно, они, постаревшие друзья детства: это вот нос Семена, горбатый, тонкий, солидных размеров — за него когда-то звали его Клеваком; а это взгляд, несомненно, Терешки Левши, разбитного и плутоватого малого, у которого рубаха была с лиловыми полосками, а портки с синими; а эти толстые, серьезные, точно собирающиеся засвистать губы — чьи же иные, как не Васьки Пульхритудова, смиренного когда-то и упорно трудолюбивого кутейника[7]?
— Вы что же, Василий Евстафьич, на родину взглянуть? — нерешительно заговорил Парийский.
— Еду продать родительский домишко. Что ему зря преть? Под почтовое отделение хотят взять… Дешевато, а придется отдать, видно.
— А сколько дают?
— Восемьсот. Дешево. Дом долговечный: старые попы основательно строились.
— Дом крепкий, чего толковать… Вы чем же сейчас служите?
— Товарищ прокурора окружного суда.
— Гляди, чины имеете большие?
— Коллежский советник.
— Это как же по-военному, вашескобродие? — спросил с козел Терентий Прищепа: — я ведь в солдатах служил, так у нас штабс-капитан, капитан, подполковник, полковник… Ну, а подпоручики и поручики — энти птаха помельче… Вы же к какому чину?
— По военной табели, кажется, полковник.
— Это слава Богу, — одобрительно заметил Прищепа: — Бог даст, и генералом будете, лестно будет и нам взглянуть.
Парийский вздохнул.
— Да, свой предел каждому указан, — сентенциозно и грустно заметил он: — а жалованье какое получаете?
— С прогонами и канцелярскими тысчонки четыре набежит.
Эта сумма, по-видимому, ошеломила обоих собеседников товарища прокурора. Терентий Прищепа посвистал, а Парийский с восхищением повторил:
— Ч-че-ты-ре тысячи! Приличное жалованьице…
— Вот бы нам с тобой, Семен, хочь бы на годок, — сказал Терентий, тряхнув головой.
— Н-да… — мечтательно согласился Парийский.
— Первым долгом — десятин пятнадцать землицы отхватил бы. Пускай полторы тыщи отдам, но она эту самую цифру в два года произнесет! Быков пары три-четыре… Осенью бы пахал, к зиме — в Москву на зарез, — дай сюда полтыщу… И концы в концов[8] напился бы потужей! — заключил Терентий вдохновенно.
Посмеялись. Смолкли. Семен Парийский прикидывал в уме, не попросить ли Василия Евстафьича насчет местечка, и не без горького чувства думал: — Да, поди ж ты… Васька Пульхритудов, губошлеп, которого он, Семен Парийский, бывало, колотил, сколько влезет, а вот теперь… четыре тысячи… Терентий Прищепа сосредоточенно помахивал одним кнутовищем на свою разномастную пару: серого Бунтишку и буланую Матренку, и она проворно бежала мелкою, так называемою, «собачьею» рысью. Мечталось ему о земле и о новых хомутах с набором, о торговле быками, поездках в Москву, о трактирах с машинами. — Жизнь людям! четыре тысячи… Небось, при этаком достатке красноголовку, пожалуй, не станет пить… дай не дай белоголовку… Товарищу прокурора хотелось сказать о том, что он при своем жалованье едва сводит концы с концами, но он не сказал: все равно не поверят…
— Ну, а ты как, Сема? — спросил он равнодушным тоном.
— Я? — отозвался Парийский, как бы с удивлением, и сейчас же махнул рукой, сделав пренебрежительно безнадежный жест: — мое существование — вполне и окончательно жалкое, Василий Евстафьич. Жизнь сложилась, откровенно сказать, по-собачьи: разут, раздет… Видите, какой дипломат?..
Он с презрением потрепал одну полу своего ветхого пальто, и Терентий Прищепа, окинувший его костюм внимательным, оценивающим взглядом, сочувственно заметил:
— Да, дипломат не того… Небось, уж блошка в нем не заведется…
Потом прибавил уверенным и спокойным голосом:
— Замерзнешь ты, парень, в нем… стыть-то какая…
Эта уверенность сообщилась вдруг и товарищу прокурора. — В самом деле, холодно, точно и не весна, и Семен застынет в своей жалкой хламиде. У меня — на гагачьем пуху, и то зябну… Хорошо бы теперь горячего чаю с коньяком…
Когда мысль от костюма Семена Парийского перескочила на коньяк, свежесть мартовского вечера почувствовалась еще ощутительнее и напомнила товарищу прокурора о том, что в корзинке ведь есть же бутылка коньяку, которую когда-нибудь да надо начать…
— Приостанови-ка, Терентий, — сказать он, — тут у меня есть… согревающее…
Терентий с готовностью тпрукнул и слез с козел. Достали из небольшой изящной корзиночки несколько бумажных свертков: один с колбасой, другой с чайным стаканом, третий с остатками ветчины, наконец, четвертый — с бутылкой. Товарищ прокурора вынул из кармана ножичек со штопором, который поразил Терентия своим остроумным устройством, и стал ввертывать его в пробку. Семен Парийский и Терентий смотрели на его работу молча и почтительно.
Пить коньяк из чайного стакана было не так приятно, как из рюмки, но оригинально, и Василий Евстафьич крякнул не без удовольствия. Когда он подал стакан Парийскому, тот, прежде чем выпить, сказал:
— Со свиданием, Василий Евстафьич.
Выпил и на секунду как бы оцепенел, неподвижно глядя в закутанное серым сумраком пространство.
— Ф-фу-у… а-а!.. — произнес он, изумленно тряхнув головой.
Терентий, принявши стакан, снял картуз, перекрестился два раза на восток и тогда уже выпил. Потом тоже качнул головой, выражая свое изумление перед напитком, и перехваченным, еле слышным голосом выговорил:
— У-у, какая духовитая…
Закусили колбасой, — Терентий, впрочем, отказался, опасаясь греха: была как раз Страстная неделя. Повторили еще раз. И когда приятное, оживляющее тепло протекло по животу, прилило к лицу и застучало в виски, стало неудержимо весело, смешно.
— Я окончательно пришиблен своей судьбой. Василий Евстафьич, — говорил Семен Парийский тоном полного удовольствия, когда снова тронулись в дорогу: — помимо всего прочего, болезнь во мне засела. Что за болезнь, сами доктора не определят. Кашель. Коклюш, кажется, называется. Такой кашель иной раз, — пища в нутре даже не держится. А раньше того живот у меня рос, трудно даже ходить было. Сказали мне: надо сулему пить. Пил сулему и вострую водку, — живот, действительно, опал, а здоровья нет.
— У тебя, парень, рак морской в нутре, должно быть, — сочувственно заметил с козел Терентий.
— Пожалуй…
И когда Василий Евстафьич засмеялся, — они оба, и Семен Парийский, и Терентий Прищепа, залились самым неудержимым смехом, точно этот диагноз доставил им необыкновенное удовольствие. Потом Семен Парийский закашлялся и долго не мог остановиться.