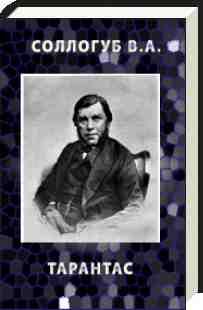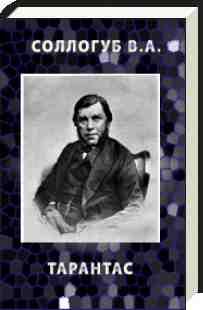— Тут, в числе зрителей, и Катеринина мать. Сейчас ко мне. — «Пожалуйте к нам», — говорит, — «у нас фатерка — самая для вас». — Что же, — говорю, — с моим удовольствием. И думаю: самый для меня удобный случай. Поселился я у них. Катерина у меня постоянно на глазах, и сердце мое, просто сказать, тает, — вот как свеча тает… Однако, у ней ко мне расположение самое хладнокровное. На другой ли, на третий ли день вышел я вечером на двор, — здравствуйте! Сидят за уголком с Прокудой рядышком. Ну, тут я завел с ним разговор серьезный и вложил ему, знаете, по первое число. Благословением родительским меня Бог не обидел, и в кулаке я крепость имел порядочную. У Симоныча, у кожевника, был камень пудов двенадцати, — я его, бывало, до груди свободно подымаю… Да, было время! А теперь вот ветер с ног валяет…
Семен Парийский вздохнул и помолчал.
— Изнашиваемся, брат, все изнашиваемся, — желая утешить его, сказал Пульхритудов: — я вот тоже… осèл, что называется…
— Ну, вы-то в самом соку, можно сказать: человек полнокровный и в полном удовольствии… А у меня всё изнурение бессилия от моего неудовольствия в жизни…
— Ну, не отклоняйся, Сема. Продолжай насчет романа… Любопытно, околпачил или нет ты эту девицу?
— Да… Ну, хорошо-с. Наблюдаю, значит. Как шмыгнет она из дома, так и я следом, потихоньку. Так, через недельку, гляжу один раз: лезет Прокуда через плетень на задний двор, яко тать в нощи.
— А, голубчик! — говорю: — ты? Ты меня зарезать грозил, — режь, вот я перед тобой!.. Оробел он, — на что бойкий парень, а оробел, молчит. Ну, бить я не стал, а взял его новые сапоги и закинул… Хорошие сапоги, гамбургского товару, под лаком. Американский гамбург; целковых двенадцать даны…
— Однако же, вижу, что хотя я своим кулаком и одерживаю успех, а Катерина-то ко мне не липнет, все к Прокудиной части тянет. Всяческие меры принимаю к своему ограждению. Зло разбирает. Раз даже толкнул ее в сердцах… положим, слегка, однако же, до слез. Только после этого получил уж окончательный отказ… даже и касаться не смей! Получил отказ, хожу в большой меланхолии, места себе не найду. Вот ее мать замечает: — «Ты, Сема, чего унывный стал?» Я перемолчал, ничего не объясняю. — «Я», — говорит, «знаю… ну, не кручинься: дело поправимое»… — Каким же родом, — говорю, — позвольте узнать? — «А вот каким родом»… Объясняет: сходить в баню, взять ваты и пузырек, а потом, когда потеть будешь, собирать этот пот в пузырек, а после влить в чай тому человеку, кого присушить хочешь…
— Сделал. Взяла она у меня этот пузырек, понесла куда-то для наговору, а потом, действительно, влила Катюшке в чай…
— Что же, подействовало? — спросил товарищ прокурора?
— Подействовало…
— Х-ха! — искренно изумился Терентий Прищепа, чмокнув языком.
— Ей-Богу, не брешу! — убежденно сказал Парийский, чувствуя нечто скептическое в молчании Василия Евстафьича.
— Значит, оно испарением входит? — умозаключил Терентий! — Это могет быть… дело пробованное.
— Да, отмякла после того девка, подалась, — продолжал Парийский: — Прокуда в эту пору как раз попался. На почте сундук взломали, так и гармониста нашего к этому делу пристегнули. Как раз в это самое время… Ну, сказать правду, поплакала она об нем. А мне удача подвезла: следователь два рубля жалованья набавил. Сейчас же, конечно, калоши новые в подарок ей. Приняла. И пошло время, знаете, славно. С полгода, сказать, блаженствовал. А потом подстигло время. Катерина чуть ходит, живот — во-о… Мать говорит: — «Надо покрыть грешок, Сема». — Ну, что ж, надо, так надо. Не отказываюсь, хотя, говорю ей, чей грех — неизвестно, но только мне ее жаль, и я готов с моим удовольствием.
Сунулись к николаевским попам, — не венчают: невесте не полные года вышли. Что тут делать? Взяла слух теща, что на Сенновке поп есть такой, что повенчает кого угодно с кем угодно. К нему и поехали. Приехали на Сенновку. Мой нареченный тесть отправился для переговоров к попу и пропал. Ждали-ждали, Наконец, вертается — пьяней грязи[10]. Нес-нес перед нами чушь какую-то, ничего понять невозможно! Пошел я сам к батюшке. Прихожу. Спрашивает он меня, кто я такой и откуда? Я говорю, что так, мол, и так, сын дьякона такой-то, приехал с покорнейшей просьбой. Объясняю, в чем дело. — «А почему же» — говорит, — «вас в Николаевке не перевенчали?» — Так и так, — говорю, — года невесте не вполне вышли, а положение вот какое. — «Приданого берете?» — Признаться, — говорю, — об этом не имел в предмете. — «А как же ваш тесть будущий сказал, что пятьсот рублей приданого за невестой?»…
— Ну тестя брехуном поставить я не захотел. Отвечаю: может быть, что и пятьсот, — он человек коммерческий, только разговору у нас, говорю, не было об этом. Крякнул тут батюшка, походил-походил этак по комнате с умственным видом и говорит; — «Да ведь вот что, молодой человек, у меня дьячок новый». — Так что же? говорю. «Э, то-то вот вы, молодые люди, вам все ничего! А побывали бы вы в моей шкуре»…
— Гляжу на него: сытый такой батюшка, румяный, подрясник на нем чечунчовый[11], в комнатах мягкая мебель в чехлах. Думаю: что же, в твоей шкуре побыть не плохо… Так неужели нельзя? — говорю. — Нельзя-то оно не нельзя, возможность есть, но — риск большой. — Ежели есть говорю, возможность, то сделайте милость, батюшка, заставьте вечно Богу молить… За сотенный билет, — говорит, — так и быть, оборудуем ваше дельце, — и то лишь для вас, молодой человек…
— Ничего, это не ошибся! — воскликнул Терентий и засмеялся тонким голосом.
— Очень вами благодарен, — думаю: — двадцать-то пять и то по ноздри, а то сотенный билет…
— Вот, — говорю, — батюшка, все деньги, какие при себе имею, могу вам отдать, — продолжал Семен Парийский, покашляв в рукав. — Оказываю я тут все свои капиталы — четвертной билет. — «Нет, дружок», — говорит, — «из-за этого и пачкаться не стоит. Сами понимаете: дьячок новый, риск большой». Больше, говорю, — при мне нет.
— «А вы там около старичков пошарьте, авось найдется… около старичков! У них, молодой человек, наверно есть. А за такую цифру, — откровенно вам скажу, — не стану пачкаться: ответственность большая»…
— Просил-просил я его, не уломаешь да и только… Ну, нечего делать! пойду, — говорю, — спрошу у них. — «Подите», — говорит, — подите, молодой человек, да без церемоний с ними! Эти народы таковые, что деликатностью из них ничего не выжмешь, а нахрапом надо.
— Пришел на квартиру, рассказал Катерине, как и что. Спрашиваю: что будем делать? А она, хотя летами и молода, рассуждает вполне правильно. — «Очень велики», — говорит, — деньги за такой малый труд. Они и нам годятся. А венчаться погодим, сойдет и так. Была я глупенькой девчонкой, так очень мечтала под венцом стоять: вся в цветах, в белом платье одета, а тут поют тебе… хорошо так… И народ глядит любуется, как на княгиню… А так-то венчаться, крадучись, никакого удовольствия нет. А как же с родителями? — «Очень просто: сходим куда-нибудь и баста!» — В самом деле верно! Свидетелей при этаком браке не берут, — действительно, проще некуда. Убрались мы с ней и пошли, — вроде как венчаться. Взяли с собой даже хохлика, нашего подводчика. Дал я ему целковый в зубы, чтобы он в случае спросят[12], сказал бы, а сам зашел в лавочку, купил бумаги, сам накатал свидетельство (дело мне знакомое) и приложил пятачком. Покончивши все, отправились мы на квартиру. Приходим в веселом этаком духе. — Перевенчал, — говорим. — Ну, перевенчал, так и слава Богу! Ехать!..
— Ну, конечно, приехали домой и зажил я у них, как зять: «папаша, мамаша» и все прочее… Так, через месяц после этого, не больше, родился у нас сын Владимир, но не долго пожил, недельки через три или четыре помер. Ну, были неприятности, конечно: друзья-приятели там разные скалили зубы, подкашливали, скрыляли[13]. Пришлось кое-кому и в ухо затопить за это за самое… Но за всем тем года полтора жизнь наша протекала вполне приятно, и только на втором году началась неприятная катастрофа…
— Стой, Терентий! — сказал вдруг товарищ прокурора таким голосом, как будто произошло что-то необычайное.
Терентий натянул вожжи и испуганно оглянулся на колеса своего говорливого тарантаса — с той и с другой стороны: колеса были целы. Приподнялся и поглядел, не потеряли ли привязанный сзади чемодан, — и чемодан цел.
— Уронили что-нибудь, вашескобродие? — спросил Терентий, недоумевая.
Товарищ прокурора с усилием вышел из созерцательного настроения и торжественно, слегка спотыкаясь ослабшим языком на длинных словах, сказал:
— Чувствую, что первая часть романа Семена Парийского завершилась почти законным образом, и по случаю столь удачного окончания предлагаю выпить…
Терентий громко захохотал, а Семен Парийский довольным голосом зашипел и тотчас же закашлялся. Пульхритудов достал бутылку, поднял ее вверх, к глазам, как бы на свет, — ничего не было видно, — взболтнул и, услышав глухо звенящий плеск, радостно сказал: