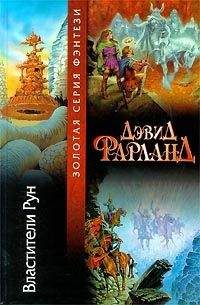- А ты мне этого, командирша, не смей и говорить, - слышишь ли? Тебе меня не учить! - прикрикивал на нее Петр Михайлыч, и Палагея Евграфовна больше не говорила, но все-таки продолжала принимать жалованье с неудовольствием.
Передав запас экономке, Петр Михайлыч отправлялся в гостиную и садился пить чай с Настенькой. Разговор у отца с дочерью почти каждое утро шел такого рода:
- Вы, Настасья Петровна, опять до утра засиделись... Нехорошо, моя милушка, право, нехорошо... надо давать время занятиям, время отдыху и время сну.
- Я зачиталась, папенька. Вчерашнюю повесть я уж кончила.
- И то дурно: что ж мы будем сегодня читать? Вот вечером и нечего читать.
- Нет, я вам ее дочитаю, я с удовольствием прочту ее еще раз; и вообразите себе, Валентин этот вышел ужасно какой дурной человек.
- Ну, ну, не рассказывай! Изволь-ка мне лучше прочесть: мне приятнее от автора узнать, как и что было, - перебивал Петр Михайлыч, и Настенька не рассказывала.
После этого они обыкновенно расходились. Настенька садилась или читать, или переписывать что-нибудь, или уходила в сад гулять. Ни хозяйством, ни рукодельем она не занималась. Петр Михайлыч, в свою очередь, надевал форменный вицмундир и шел в училище. В прихожей обыкновенно встречал его сторож, отставной солдат Гаврилыч, прозванный школьниками за необыкновенно рябое лицо "Теркой". Надобно было иметь истинно христианское терпение Петра Михайлыча, чтобы держать Гаврилыча в продолжение десяти лет сторожем при училище, потому что инвалид, по старости лет, был и глуп, и ленив, и груб; никогда почти ничего не прибирал, не чистил, так что Петр Михайлыч принужден был, по крайней мере раз в месяц, нанимать на свой счет поломоек для приведения здания училища в надлежащий порядок. Кроме того, у сторожа была любимая привычка позавтракать рано поутру разогретыми щами, которые он обыкновенно и становил с вечера в смотрительской комнате в печку на целую ночь. Петр Михайлыч, почти каждый раз, приходя поутру, говорил:
- Ты, гренадер, опять щи парил. Экую душину напустил! Смотри-ка: не дохнешь!
- Ну да, парил, у тебя все парил! - возражал Гаврилыч.
- Да как же не парил! Еще запираешься, лжешь на старости лет, греховодник!
- Погляди сам в печку, так, може, и увидишь, что тамотка ничего нет.
- Знаю, что в печке ничего нет: съел! И сало-то еще с рыла не вытер, дурак!.. Огрызается туда же! Прогоню, так и знаешь... шляйся по миру!
- Гони! Словно миром не живут, - отвечал Терка и уходил.
- Дурак! - повторял ему вслед Петр Михайлыч.
Впрочем, тем все и кончалось.
Занявшись в смотрительской составлением отчетов и рапортов, во время перемены классов Петр Михайлыч обходил училище и начинал, как водится, с первого класса, в котором, тоже, как водится, была пыль столбом.
- Ах вы, эфиопы! Татарская орда! А?.. Тише!.. Молчать!.. Чтобы муха пролетала, слышно у меня было! - говорил старик, принимая строгий вид.
В классе несколько утихало.
- Зашумите вы у меня еще раз! Всех переберу - из девяти возьму десятого на выдержку! - заключал он торжественно и уходил.
В коридоре прямо летел на него сорванец и чуть не сшибал его с ног.
- Что ты? Что ты, братец? - говорил, разводя руками, Петр Михайлыч. Этакая лошадь степная! Вот я на тебя недоуздок надену, погоди ты у меня!
- Петр Михайлыч, меня Модест Васильич без обеда оставил; я не виноват-с! - говорил третьего класса ученик Калашников, парень лет восьмнадцати, дюжий на взгляд, нечесаный, неумытый и в чуйке.
- Когда оставил, стало, ты это заслужил, - возражал ему Петр Михайлыч.
- Я, ей-богу, ничего не делал; спросите всех. Они на меня, известно, нападают. Мне сегодня нельзя: день базарный; у тятеньки в лавке некому сидеть.
- И лучше, что нельзя, лучше раскаешься и поймешь, что дурить и грубить не следует, - говорил Петр Михайлыч и поскорее уходил.
Калашников его передразнивал, так что старик все слышал:
- Грубить и дурить не следует, - ту, ту, ту, тетерев! Я и без шапки убегу; много с меня возьмешь! - говорил он и с досады отламывал закраину у карты.
Вообще строгость и крутые меры были совершенно не в характере Петра Михайлыча. Со школьниками он еще кое-как справлялся и, в крайней необходимости, даже посекал их, возлагая это, без личного присутствия, на Гаврилыча и давая ему каждый раз приказание наказывать не столько для боли, сколько для стыда; однако Гаврилыч, питавший к школьникам какую-то глубокую ненависть, если наказуемый был только ему по силе, распоряжался так, что тот, выскочив из смотрительской, часа два отхлипывался. Но в совершенное затруднение становился старик, когда ему нужно было делать замечание или выговоры учителям. Этому, впрочем, подпадал один только преподаватель истории Экзархатов, который был человек очень неглупый, из университета. В продолжение всего месяца он был очень тих, задумчив, старателен, очень молчалив и предмет свой знал прекрасно; но только что получал жалованье, на другой же день являлся в класс развеселый; с учениками шутит, пойдет потом гулять по улице - шляпа набоку, в зубах сигара, попевает, насвистывает, пожалуй, где случай выпадет, готов и драку сочинить; к женскому полу получает сильное стремление и для этого придет к реке, станет на берегу около плотов, на которых прачки моют белье, и любуется... Посуда, окна, домашние не попадайся: исколотит. А проспится, опять тише его нет. Еще в Москве он женился на какой-то вдове, бог знает из какого звания, с пятерыми детьми, - женщине глупой, вздорной, по милости которой он, говорят, и пить начал. Во все время, покуда кутит муж, Экзархатова убегала к соседям; но когда он приходил в себя, принималась его, как ржа железо, есть, и достаточно было ему сказать одно слово - она пустит в него чем ни попало, растреплет на себе волосы, платье и побежит к Петру Михайлычу жаловаться, прямо ворвется в смотрительскую и кричит:
- Батюшка, Петр Михайлыч, сделайте божескую милость! Что это такое?.. Батюшка!..
- Что такое случилось? Что вам угодно от меня? - спрашивает Годнев, хотя очень хорошо знал, что такое случилось.
- Известно что: двои сутки пил! Что хошь, то и делайте. Нет моей силушки: ни ложки, ни плошки в доме не стало: все перебил; сама еле жива ушла; третью ночь с детками в бане ночую.
- Боже мой! Боже мой! - говорил Петр Михайлыч, пожимая плечами. - Вы, сударыня, успокойтесь; я ему поговорю и надеюсь, что это будет в последний раз.
- Батюшка, да ты хорошенько с него спроси; нельзя ли как-нибудь... хошь бы ты посек его.
- Как это можно, сударыня! Вам и говорить этого не следует, - возражал Петр Михайлыч.
- Гаврилыч! - кричал он. - Подите и попросите ко мне господина Экзархатова.
И Экзархатов являлся, немного сутуловатый, в потертом вицмундире, с лицом истощенным, с синяком на левом глазу... вообще фигура очень печальная.
- Вы, Николай Иваныч, опять вашей несчастной страсти начинаете предаваться! Сами, я думаю, знаете греческую фразу: "Пьянство есть небольшое бешенство!" И что за желание быть в полусумасшедшем состоянии! С вашим умом, с вашим образованием... нехорошо, право, нехорошо!
- Виноват, Петр Михайлыч, сам очень хорошо чувствую, - отвечал Экзархатов и еще ниже потуплял голову.
- Ты, рожа этакая безобразная! - вмешивалась Экзархатова, не стесняясь присутствием смотрителя. - Только на словах винишься, а на сердце ничего не чувствуешь. Пятеро у тебя ребят, какой ты поилец и кормилец! Не воровать мне, не по миру идти из-за тебя!
- Так, так, - говорил Годнев, качая головой.
- Виноват, Петр Михайлыч, - повторял Экзархатов.
- Верю, верю вашему раскаянию и надеюсь, что вы навсегда исправитесь. Прошу вас идти к вашим занятиям, - говорил Петр Михайлыч. - Ну вот, сударыня, - присовокупил он, когда Экзархатов уходил, - видите, не помиловал; приличное наставление сделал: теперь вам нечего больше огорчаться.
Но Экзархатова не оставалась этим довольна.
- А что мне не огорчаться-то? Что вы ему сделали?.. По головке еще погладили пса этакова? - говорила она.
- Ай, ай, ай! Как это стыдно даме такие слова говорить! - возражал Петр Михайлыч. - Супруги должны недостатки друг у друга исправлять любовью и кротостью, а не бранью.
- Тьфу мне на его любовь - вот он, криворожий, чего стоит! - возражала Экзархатова. - Кабы знала, так бы не ходила, потатчики этакие! присовокупляла она, уходя.
Петр Михайлыч усмехался и говорил сам с собой:
- Характерная женщина! Ах, какая характерная! Сгубила совсем человека; а какой малый-то бесподобный! Что ты будешь делать?
Проходя из училища домой, Петр Михайлыч всегда был очень рад, когда встречал кого-нибудь из знакомых помещиков, приехавших на время в город.
- Остановитесь на минуточку! - кричал он.
Помещик останавливался.
- Надолго ли? - спрашивал Петр Михайлыч.
- До завтра.
- А сегодня никуда не званы обедать?
- Нет, ни у кого еще не был.
- Так что же, приезжайте щей откушать; а если нет, так рассержусь, право рассержусь. С год уж мы не видались.