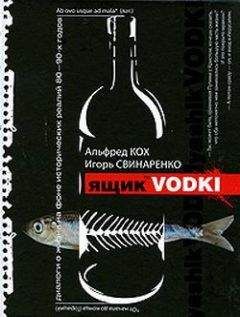Александр Иванович наконец встал с постели и начал одеваться. Костюм его был очень потерт, сапоги заскорузлы и не чищены, сюртук с чьих-то других плеч, более могучих, чем тщедушные плечи Александра Ивановича. Александр Иванович никогда не умывался, никогда не причесывал свои густые и длинные волосы, которые он тоже почти никогда не стриг, и они копной лежали на его воротнике. Длинная, густая борода его, с небольшою проседью по бокам, свалялась до такой степени, что расчесать ее когда-нибудь не представлялось никакой возможности. Он носил крахмальные сорочки, но не признавал запонок и отрицал галстух, вместо которого ему с успехом служила собственная борода. Александр Иванович состоял в должности столоначальника, но, судя по его внешности, никто никогда не поверил бы этому, до такой степени в нем не было ничего столоначальнического: он скорее походил на Робинзона, так он запустил себя и пренебрегал своей особой. А между тем, если бы его умыть, причесать, одеть в чистое белье и хорошее платье, - то получился бы очень важный господин.
Между тем Толкуниха принесла водки и капусты с рассолом. Александр Иванович обратился к водке. Вместо рюмки Толкуниха, зная его обычай, подала чайный стакан, и Александр Иванович налил сразу полстакана, предварительно расплескав немного, потому что в руках у него был сильный "дрожемент".
Он с отвращением выпил водку и, сделав страдальческую гримасу, перевел свои взоры на капусту, закусив маленьким ее листочком. Потом он хлебнул рассола.
Тотчас же Александр Иванович почувствовал, что "медведь" сделался "мягче" и с меньшей силой давил его голову.
Он нетвердой походкой прошелся по комнате. В то время как в его голове ощущалась тяжесть, в теле была такая слабость и легкость, как будто оно не имело никакого веса. Члены дрожали, и как-то казалось, что в комнате не хватает воздуха. Действительно, воздух в его комнате приобрел специфически водочный запах. Грязь и неприглядность его полутемной конуры казались ему теперь особенно отвратительными, как и сам он себе, как и все на свете.
Чувство страха, боязни самого себя и своего одиночества возбудило у него настоятельное желание скорее выскочить на улицу, чтобы не быть одному, видеть, по крайней мере, прохожих, слышать уличный шум.
Он выпил еще полстакана, допил рассол, затем надел потертое пальтишко, блин, служивший ему картузом, и вышел на улицу, засунув в рукава свои короткие, безобразные, когда-то обмороженные в пьяном виде пальцы, косматый, согнувшийся, дрожащий и жалкий, как кабацкий завсегдатай...
Улица несколько оживила Александра Ивановича свежим воздухом, своими звуками и светом солнечного дня. Сквозь треск экипажей откуда-то доносились веселые и вместе с тем грустные звуки хриплой, убогой шарманки.
"Медведь", смягчаясь, медленно уходил из его головы, и знакомые улицы показались ему в каком-то новом свете, словно он давно не был в этом городе или смотрел на него с каланчи. Звуки шумного города доносились до него как бы издалека и баюкали его отупевшую душу. Обрывки каких-то неясных мыслей медленно поползли в его голове, и он сам не знал, о чем, собственно, он думает, но чувствовал себя лучше.
В таком настроении он бродил по улицам, безучастно смотря на встречных людей, на проезжавшие экипажи, бессознательно ища, с кем бы встретиться и не быть одному.
Вдруг кто-то окликнул его. Александр Иванович вздрогнул и обернулся: его догонял какой-то хорошо одетый господин важного вида, в золотых очках.
- Так, значит, я не ошибся! - заговорил он, останавливая Александра Ивановича. - Это ты, Александр?..
Александр Иванович всмотрелся в него своими близорукими глазами и отвечал с недоумением:
- Я вас не знаю...
- Я Третьяков!..
При этом имени Александр Иванович вдруг весь съежился и почувствовал желание убежать, шмыгнуть куда-нибудь, провалиться сквозь землю... Он вдруг узнал в этом важном господине своего товарища по университету, когда-то делившего с ним вместе студенческое житье, когда-то преклонявшегося пред талантами Александра Ивановича. Ему вдруг стало стыдно своей наружности, костюма и всего своего существования. Он совсем растерялся от такой неожиданности и пробормотал какие-то несвязные слова. Но уж Третьяков взял его под руку и увлек с собой, не переставая говорить. Это был живой, бодрый, красивый мужчина, казавшийся гораздо моложе Александра Ивановича.
- Как я рад, что ты мне попался! - говорил он. - Я недавно здесь и слышал о твоем здесь пребывании... Я хотел тебя разыскать: мне так хотелось взглянуть на тебя... Но тебе, должно быть, плохо живется?
Александр Иванович конфузливо ежился. Третьяков продолжал:
- Как же ты изменился! Даже странно, что я узнал тебя через столько лет!.. Ведь мы с тобой расстались еще студентами... Эх, Александр, помнишь прежнее?..
- Не вспоминай! - глухо отвечал Александр Иванович. - Я теперь застрял в канцелярщине! Я - мертвый человек! Напрасно ты узнал меня!
Старый товарищ пристально посмотрел на Александра Ивановича.
- Что с тобой, Александр? Ты какой-то растерянный?
- Я одичал... Мне стыдно перед тобой... Я в таком виде...
- Помилуй! Ведь я-то все тот же! Зайдем сейчас ко мне, я познакомлю тебя с моей женой, мы вместе позавтракаем, вспомянем нашу молодость!..
- Что ты, что ты! В уме ли? - вскричал Александр Иванович в ужасе. - Куда же меня пустить в моем костюме? Ты посмотри на меня! - И он хотел выдернуть свою руку, но приятель крепко держал ее, говоря:
- Нет, брат, не уйдешь!
Они долго спорили, и наконец Александр Иванович был насильно затащен в подъезд какой-то очень хорошей квартиры.
Волей-неволей он должен был подчиниться и войти по лестнице наверх. Их встретила горничная. Она с уважением сняла с Александра Ивановича его рваное пальтишко.
- Сиди здесь! - сказал ему товарищ. - Я сейчас представлю тебе жену!
И он скрылся в боковую дверь. Александр Иванович покорно сел и начал оглядывать комнату. Он пятнадцать лет нигде не бывал, кроме своей конуры и канцелярии, которая была еще мрачнее, чем конура, с огромными грязными окнами, огороженными, как тюрьма, железными решетками.
Эта уютная, изящная, роскошная и простая комната поражала его. В ней не было ничего лишнего, ничего бьющего в глаза; он не заметил ни одного отдельного предмета, обращающего на себя внимание. Мягкая бархатная мебель, ковры, картины, канделябры, книги и масса всевозможных мелких вещей представляли из себя какое-то одно общее целое, одушевленное, казалось, мыслью, вкусом и характером хозяев. Это была квартира, а не "квартирка", не то, что обыкновенно содержит в себе "семейных людей" и ту "обстановочку", глупую и ненужную, где каждая вещь говорит о невыносимо пошлой рутине; это было помещение, где "живут", а не существуют, где находятся люди, а не спарившиеся две особи мужского и женского пола. Это было обиталище разумных, развитых и мыслящих существ.
Александр Иванович вспомнил свое логовище и только теперь с поразительной ясностью увидал, до чего низко он опустился, какое жалкое и нечеловеческое существование влачил, до какой степени забросил в себе образ человеческий.
И у него зародилось смутное желание "подняться", сбросить с себя этот кошмар обломовщины, ухватиться за жизнь, попытаться узнать, все ли для него пропало в жизни или не все.
В соседней комнате послышались шаги, дверь отворилась, и Третьяков ввел молодую женщину, почти девушку, одетую просто, но изящно, красивую брюнетку с такими чудными черными глазами, осененными длинными ресницами, с такими правильными чертами овального лица, покрытого пленительным золотистым загаром цвета желтоватой слоновой кости, что Александру Ивановичу она показалась странным видением, мечтой, которая должна сейчас исчезнуть, как бред, как роскошная галлюцинация.
И когда она заговорила своим музыкальным, грудным, нежным голосом, улыбаясь розовыми губками, обнаружившими ровные сверкающие зубки, и подала ему бархатную нежную ручку с тонкими пальчиками, Александр Иванович ничего не мог сказать ей на ее приветливую, простую, дружескую речь. А она заговорила с ним так просто и непринужденно, как будто он был старинный ее знакомый и свой человек. От этого безыскусственного тона Александр Иванович мало-помалу осмелился и почувствовал себя среди этих приветливых, хороших и деликатных людей так хорошо и просто, что перестал думать о своем неумытом и нечесаном лике и неприличном костюме. Ему показалось, что тут им не гнушаются, и это успокаивало его больное самолюбие.
Он любовался на эту женщину из чуждого для него мира и чувствовал восхищение. Александра Ивановича никогда не любила ни одна женщина. Ему давно уже не приходилось быть в обществе иных женщин, кроме продажных, отвратительных и циничных, к которым он не решался являться иначе, как с Антихристовым Кучером и в пьяном виде.