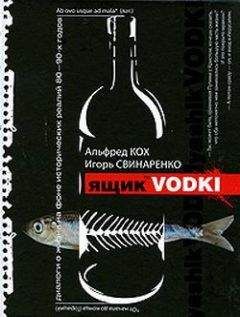Вскоре подан был изящный, тонкий завтрак. Мужчины выпили по рюмке английской горькой, а женщина маленькую рюмочку легкого вина, чокнувшись с Александром Ивановичем изящным движением руки и улыбаясь милой улыбкой чистого, неиспорченного существа.
За завтраком шел легкий, остроумный и нисколько не натянутый разговор. Александр Иванович узнал, что его приятель получил место председателя в какой-то уездной земской управе и на днях должен был ехать туда, что земская служба для него живое дело, в которое он готов вложить всю свою душу и всю энергию, и казалось, что жена была и его душой, и его энергией. Они обращались друг с другом с такой товарищеской простотой, с такой нежностью и любовью, что казалось, какой-то невидимый ангел витал между ними. После завтрака муж сказал жене:
- Аня! Поди-ка поиграй нам что-нибудь на рояле... А мы тут будем курить и слушать...
И затем, обращаясь к Александру Ивановичу, сказал:
- Она у меня музыкантша!
В соседней комнате стоял рояль, и жена тотчас же начала раскладывать ноты. Она села за рояль и крикнула им оттуда:
- Что же вам сыграть?
Муж отвечал:
- Ну, что-нибудь из Бетховена!
И вот загремели первые, странные, непонятные, но мощные и властные аккорды. А мужчины сели рядом на диван и закурили сигары.
Странно чувствовал себя Александр Иванович. Эта неожиданная встреча при такой обстановке, эти милые, порядочные в истинном смысле слова люди, аромат сигары и, наконец, успокаивающие звуки рояля, заставляющие мечтать, эта странная музыка Бетховена, порождающая какое-то необыкновенное настроение, возвышающее душу над всей жизнью, над ее мелочами, ничтожеством и грустью, - все это расположило его к откровенности и задушевности.
Третьяков, тоже разнеженный этим странным миром чарующих звуков, долго молчал и слушал вместе с Александром Ивановичем, затягиваясь тонким дымом ароматной сигары; оба они, казалось, что-то думали, как будто гениальный композитор раскрыл перед ними тайну понимания человеческой жизни...
Наконец Третьяков повернулся к Александру Ивановичу и спросил его тихим и мягким голосом:
- Ну, Саша, расскажи-ка мне, как ты застрял на этой мертвой службе?
И Александр Иванович тотчас же стал рассказывать. Он рассказывал о своей жизни и о своей душе. Он говорил о засасывающей и отупляющей мертвечине канцелярского труда, о неглупых и способных людях, превратившихся от этого труда в идиотов, манекенов. Он говорил о своем безучастном отношении к мертвому канцелярскому миру, о своем нежелании приспособляться к подлостям жизни, о своем одиночестве, о страдающем самолюбии, о том, что он никем не понят, что осмеян дураками и унижен завистниками, что у него нет ни одного близкого человека, что он разочарован во всем, во всей жизни, что жизнь его пуста, мертва, ничтожна, что она вся, со всем своим блеском и красками, с любовью, дружбой, живым трудом и надеждами будущего, - ушла от него, исчезла, скрылась и он остался в своей конуре старого, спившегося холостяка, что он отгорожен от жизни железными решетками своей канцелярии; что он упал духом, не верит в возможность обновления и пьет, как алкоголик, пьет мрачно и безнадежно, чтобы быть в состоянии вечного сна и отупения, чтобы не видеть, не чувствовать, не мыслить, не сознавать, потому что все ощущения жизни причиняют ему неизбежное, неизлечимое страдание, что спасения ему нет и цель его жизни - могила, смерть, забвение...
Александр Иванович говорил долго, красноречиво, с увлечением, с горьким и сильным чувством сознания своей погубленной жизни, которое так долго разъедало его душу. А звуки, странные, широкие, мощные, уносящие, непонятные, таинственные и властные, все лились и лились, как бы поясняя этот странный рассказ о погибшей, никем не замеченной жизни.
И вот Александр Иванович почувствовал, что его горло сжимается, углы рта, как у ребенка, конвульсивно опускаются книзу, а глаза наполняются слезами. И он не мог дальше говорить, он зарыдал со страшными усилиями удержать эти рыдания, стыдясь их, рыча, сердясь на себя, проглатывая слезы, браня себя, извиняясь, стараясь обратить все в шутку, смеясь...
Но рыдания набегали новой волной и заглушали этот фальшивый смех, обращая его в слезы...
- Ты не обращай внимания... - говорил он, рыдая, - что я плачу... это от пьянства... нервы расстроились... я ведь и сам сознаю, что это... просто нервы... а остановиться не могу... тьфу, черт!.. ведь смешно же это... Ха-ха!..
Он хотел засмеяться, но вместо этого зарыдал еще более...
А рояль тоже рыдал, унося, расширяя, обобщая эти слезы в слезы над целым миром, над всею жизнью.
Наконец он успокоился.
Третьяков сжал его руку и заговорил с чувством:
- Хочешь ли, Александр, я спасу тебя? Брось твое место и поедем со мной в земство! Я тебя сделаю секретарем! Мы будем вместе бороться против врагов народа, гасителей света! Наш девиз будет: народное благо, народное образование, народное здоровье! Мы вступим в беспощадную борьбу со злом и невежеством... На эту борьбу не жаль отдать всю свою жизнь и кровь, силы и способности, и если нас одолеют, выгонят, убьют, то все же это будет лучше твоего прозябания. Я совершенно уверен, что в этом живом и благородном деле ты обновишься, воскреснешь, развернешь свои прежние таланты, приложишь твои знания, способности, любовь к людям; ты перестанешь пить, ты сделаешься тем замечательным человеком, каким бы должен быть! Саша, друг мой! Не падай духом! Обещай мне, что ты бросишь пить, займешься тем делом, которое я тебе дам, и я увезу тебя с собой! Обещай мне! Дай мне твою руку!
Александр Иванович сказал:
- Обещаю! Вот тебе моя рука! Я более или не пью, или не приду к тебе...
Третьяков обнял и поцеловал Александра Ивановича.
В это время замер последний мощный аккорд, и женщина, подходя к ним, сказала, улыбаясь:
- Да вы и не слушали?
Муж отвечал:
- Нет, мы слушали, Аня, мы слушали, слушали! Вот видишь ли, Аня, Александр Иванович соглашается перейти в наше земство! Он очень способный человек, и нам нужно непременно устроить так, чтобы он не раздумал!..
Она отвечала:
- Ах, я очень рада, Александр Иванович, ведь вы его старый товарищ! Как это мило, что вы будете с нами! Ну конечно, вы не раздумаете! Я запрещаю вам это!..
Александр Иванович глядел на них глазами, полными слез, и говорил:
- Господа! Вы меня спасаете. Я здесь гибну, я гибну здесь, гибну!..
Он более ничего не мог сказать и опять заволновался.
- Ну, полно, Александр! - возразил Третьяков, весело хлопая его по плечу. - Тебе ли погибать? Ты просто засиделся на одном месте, застрял... Тебе нужно встряхнуться, освежиться!.. Вот что, брат: приходи-ка завтра об эту пору к нам, и мы все устроим: вместе сходим к твоему начальству, заберем документы, аттестаты - и марш-марш! Заживем по-новому, дружище!.. Будет и на нашей улице праздник!..
Эти ободряющие речи заразительно подействовали на Александра Ивановича, и в нем наконец пробудилась радостная надежда поправить свою жизнь, пробудились запоздалые мечты и пламенная решимость. Жизнь как будто давала ему последнюю возможность уцепиться за колесо фортуны, и он ставил на карту последнюю ставку. Теперь или никогда! - решил он. Просветленный, оживший, он повеселел и, распрощавшись с этой доброй и счастливой четой, полетел домой, окрыленный радостью и надеждами.
И вот Александр Иванович сидел опять в своей грязной, темной и тесной конуре.
В окно видно было все тот же забор и около него кучу навоза, на которые он смотрел вот уже пятнадцать лет. "Разверстая" кровать, дряхлые стулья, непокрытый стол, пустые бутылки, грязь, паутина и спертый воздух - все это он заметил только теперь, и все это показалось ему в высшей степени жалким и отвратительным. В его ушах еще звучали мощные, куда-то увлекающие аккорды, слышался нежный голос этой чудной, неземной красавицы; на своих заскорузлых, обмороженных пальцах он еще чувствовал прикосновение ее удивительной бархатной ручки с тонкими нежными пальчиками, на него еще как будто смотрели эти глубокие, как бездна, как море, черные глаза, простодушные, наивные, добрые, чистые... И ему вдруг пришла странная мысль: не сном ли все это было, не галлюцинацией ли после колоссального пьянства, и не очнулся ли он сейчас, вздремнув около непокрытого стола на продавленном стуле? Но нет, все это было. Он видел воплощение человеческого счастья, и оно было счастьем его товарища. И он в первый раз в жизни пожалел о том, что у него за всю жизнь никогда не было ни одной любовной истории, что он не изведал наслаждения быть любимым красивой женщиной, и ему казалось, что это наслаждение лучшее из всех на земле. Он сознавал, что ни одна сколько-нибудь сносная женщина не может полюбить его, что эта сторона жизни, самая ценная и яркая, прошла мимо него и воротить ее невозможно... И вот он с ужасом ощутил страшное желание напиться, напиться зверски, до беспамятства, до забвения всего... Его ужасало это желание, этот шепот демона, и он говорил себе: "ни за что!", "никогда!", "иначе все пропало!". И боролся с этим желанием, с этим мучением своей души...