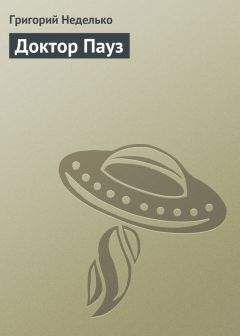В гараже было просторно, мрачно и промозгло-сыро. Пахло влажным железом, бензином и гашеной известью из-за приоткрытой туалетной двери. У входа в тамбурок, ведущий к станции, урчал серенький, похожий на вчерашний РАФ, а слева, в глубине, над смотровою ямой желтел в полумгле кургузый нахохленный "уазик".
Людей в гараже не было, зато на первом этаже ходили по коридору женщины в белых халатах и мужчины в халатах и без, которые, не обратив на Чупахина ни малейшего внимания, останавливались вдвоем либо втроем, переговаривалисъ и смеялись, а на вопрос о начальстве небрежно махали рукой куда-то "туда", наверх.
Отыскав наконец на третьем этаже главный кабинет, Чупахин коротко постучал и, веселея от подзабытого волнения, ткнул тремя пальцами в черный новенький кожзаменитель.
- Можно? Я прошу прощения... э-э... разрешите?
Начиналась старая, навязшая в зубах игра. Полноватый, "солидный" и внушающий "серьез отношений" мужчина одних с Чупахиным лет, восседающий за столом, едва приметно кивнул в ответ, однако же ни взглядом, ни жестом не предлагая ему, как водится, "проходить", "присаживаться" и, как было бы еще лет десять назад, "минуточку обождать". Соединив внизу отяжелевшие руки, Чупахин стоял у двери.
- Тэк-с, - чакнула на рычаг трубка. По Чупахину без церемоний прошлись цопенькие ледяные глаза. - Ну что такое? Что у вас? Вы кто?
И, забывая о ненужном посетителе, занятой, загруженный руководящей работой человек ушел в себя, в вызванные, вероятно, телефонным разговором мысли.
- Я по трудоустройству, - сказал Чупахин, а затем, "сглотнув отвращенье", повременив, прибавил необходимые поясняющие слова.
Будущий (его), быть может, начальник оглядел его снизу вверх.
- Ну и? - побудил Чупахина, внезапно завершив разом и осмотр, и мысль.
Тот повторил про трудоустройство и, сокращенно, поясняющие слова.
- Уг-гум-м... - не без насмешки, но поощряюще, старшебратски молвил хозяин кабинета. - Поработать у нас желаете? Что ж, проходите, присаживайтесь... Похвально, похвально, молодой человек!
Чупахин сел в креслице против стола и поблагодарил.
- Да за что спасибо-то, голубок?! - заулыбался хозяин кабинета пововсе уж отечески. - Не за что пока что, мил человек.
- За "молодого человека", - не опуская глаз, отвечал Чупахин тоже как бы простодушно. - Давненько меня... Просто-таки польстили старику.
Тут и было, наверное, самое тонкое место. Волосок. Быть или не быть Чупахину. То самое, из-за чего так неважнецки складывалось сплошь и рядом с этими ребятами дело. В тусклых сереньких глазках вспыхнула голубая молния...
Но то ли санитары придольской "скорой помощи" требовались не на шутку, то ли обижаться на такого - никакого - Чупахина сочтено было ниже маршрута птиц высокого полета, но только нехорошая пауза повисела-повисела в кабинете и истекла.
- Ну уж старику! - хмыкнул хозяин, уводя взгляд и благоразумно отступая на расхоженную тропу общежитейских тем и интонаций. - Ну сколько вам? Тридцать девять? Сорок? Сорок два?
- Сорок восемь, - сказал Чупахин.
По мгновенной застылости в пухлявых щеках он понял, вернее, утвердился в догадке, что перед ним ровесник, годок, - а сие обстоятельство искони ощущалось едва ль не как кровное родство. Эдакий еще один затерянный однополчанин из врозь бредущего тылами полка... Он угадывал, каждый раз угадывал их без радости, без любви и желанья сводить знакомства, но всегда обезоруживаясь и слабея.
- Трудовая с собой?
Вот и всё, почувствовал Чупахин. Жребий брошен. Судьба решена. До какого б самоотчуждения ни довел себя добычею благ временной его брат, невидимый прежде сошагатель, как ни подминал, ни крошил, выживая, душу, у него теперь тоже - сорок восемь! - не достанет духу указать Чупахину на дверь.
Начальник-то начальник, но и человек ведь!
Глянцевито-беленькие с неразвитыми ноготками пальчики "брата" перебирали, листая и отлистывая вспять, месяцы и годы неприлично пухлой трудовой его книжки, а сам он, Чупахин, как-то разом выдохнувшись, с сокрушеньем признавался себе - да-да, увы, и в кой раз он ошибся, предполагая, что перетерпленные смерти, больницы и депрессивные западания добавят ему терпимости и великодушия... Увы! Ничуть, оказывается, не бывало! Ни на чуть-чуть.
- Да, - отдавая документ, кивнул брат и будущий начальник, - производит впечатленье, хочу сказать... Даже, это самое, и поучилися...
- Ага, - подхватил Чупахин, - чему-нибудь и как-нибудь! (Для поддержания диалога.)
- И от нас уйдете, не правда ли? - годок и начальник по-свойски, покамест коротко - хе-хе! - хохотнул и - т-рум-п-п... - постучал пальчиками по столу. - Но нас это не пу-гает! Текучка кадров, понимаешь! Время такое... Чтоб ему...
Чупахин сунул трудовую в карман и ждал дальнейших распоряжений.
- Ну лады, Конст...тин Тимофеич! Беру! - впрочем, вяло, тоже, вероятно, устав, подытожил начальник. - Но, - указательный палец вверх, пре-дуп-реж-даю! Кровь, моча, рвотные массы... Салоны в машинах придется мыть... И ежли я тебе две ставки положу... потом, когда тряпку держать научишься, деньги смешные... для мужика
то! - И не удержался: - Для бородатого-то...
"А может, уйти все ж таки?" - шмыгнула у Чупахина искушающая мысль.
Моча, кровь... Контакты... Улыбаться надо не надо. Речи пьяные. Сон неизвестно среди чего... Советы...
Но он не ушел, Чупахин. В воображении замерцал, зазыбился у него силуэт женщины, соответствующей его нежности своим строением. Склоняя на грудь аккуратно причесанную головку, она медленно-медленно, как при съемке рапидом, отворачивалась от него, собираясь без упрека, понимающе-горько исчезать.
- Ну так что же, голубок? - поднимаясь и не протягивая руки, с веселой насмешливостью вопрошал опять воротившийся в свою нишу недавний брат. Будем работать санитаром на "скорой помощи" или уж не будем? Э-э... Ну?!
- Будем! - тоже вставая, отвечал Чупахин с отвратительной - он чувствовал - солдатской улыбкой. - Спасибо огромное за такое ваше внимание!
Главврач глянул было внимательней: всерьез или издевается Чупахин над ним или неизвестно чем, - но (и поднадоело, и плевать) махнул, фигурально выражаясь, на все это вместе рукою. К нему в полном объеме возвращалась прежняя ответственно-усталая эта повадка.
- Лады! - опустился он за стол. - Иди, голубь, к старшему фельдшеру, тамо график составляют как раз... Скажи, чтоб поставили... Я, скажи, велел.
* * *
Если бы литература
Мне помогла хоть немного:
Освободила от службы
Вечной погони за хлебом.
Горячая была.
Приняв душ, Чупахин намешал в кипятке дешевенького кофе и, вытащив из ящика рябые от правки листы на скрепочке, возлег с ними на тахту, намереваясь, как он это называл, "поработать". Надеялся заглушить горький осадок от столь внезапного, потрясшего слабые его нервы трудоустройства.
На скрепочке был опус, нечто вроде беллетризованного эссе о творчестве бывшего земляка - Николая Колодея, возле коего (как обозначалось для себя) было ему, Чупахину, легче дышать в цементные семидесятые годы.
Когда Чупахина заваливали на приеме в Союз писателей в местном отделении, он, Николай Колодей, Николай Федорович для Чупахина-то, был единственным человеком, кто публично заступился за него на сем позорище.
- А-а, - морщась и улыбаясь одновременно, говорил он, бывало, о литерату
ре, - сдалась она тебе!.. Тоже, добра-то...
А Чупахин, вишь ведь вот, не верил.
Родом Колодей был с рабочей окраины, отличник и спортсмен от юности, а потом пописывающий юмористические рассказцы инженер; в золотые шестидесятые - один из героев того исполненного непритязательной поэзии времени.
А в семидесятые он, юморист и вроде бы несерьезный прозаик, неожиданно для всех написал три подряд автобиографические повести. Про детство. Про отца. И, последнюю, про мать. Про то, как отец ходил на войну, как умирал. Какой была мать. "Всю себя отдала другим, всю свою жизнь - словно в землю высеяла..."1 И сразу сделался известным, лучшим в своих краях, вызывающим доверие у страждущих и жаждущих, таких, как Чупахин, переведенным инно на худо-бедно какие-то языки... Но в начале восьмидесятых что-то такое сбилось, помрачилось в его душе. Остроумный, справедливый и честный, то, что называется "веселый сердцем", в охотку прежде гулявший на всякого рода "пирах духа" и просто пирах, он все чаще пил в эту пору один. Жена требовала денег, дочь трезвения, а дела шли хуже и хуже. Когда ж разразились времена "демократические", он вовсе ощутил себя не у дел и, подобно двум-трем другим сокрушенным сердцем литшестидесятникам, повесился посредством брючного ремня на спинке кровати одного из подмосковных домов творчества...
"Пора достойно умереть,
Пора нам умереть достойно.
Не ждать, пока благопристойно
Нас отпоет оркестров медь.
Наш бой проигран - и шабаш!
Хоть мы все время наступали,
Да не туда коней мы гнали,
Промашку дал фельдмаршал наш.