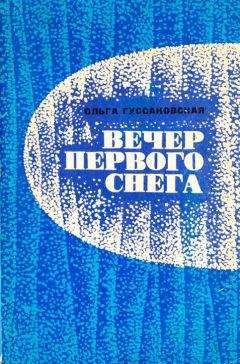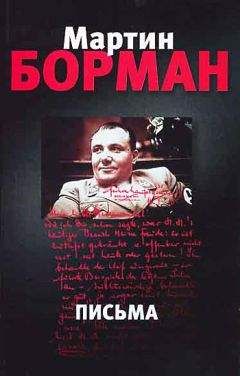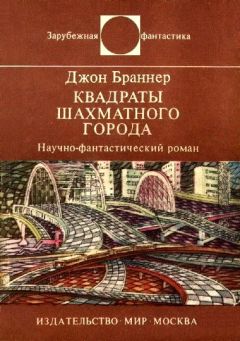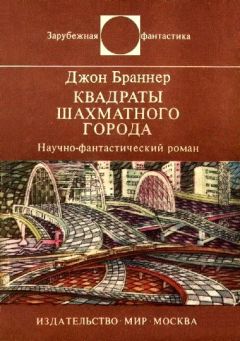Они быстро обнаружили, что американская яркость упаковок уступает яркости свежей зелени, горячему земляному аромату помидоров, пропитанному солнцем меду. Все это осталось дома.
Их встретил приехавший на два месяца раньше Шкет. Приняв новых американцев в "Одессе" на Тринадцатом Брайтоне, он говорил с видом знатока:
-- Гришок, это чисто работный дом, в натуре. Перед тобой открыты все пути. Хочешь -- иди работай в такси, хочешь -- торгуй на улице хот-догами. Если ты будешь пахать 24 часа в сутки, так это -- золотое дно. Не хочу тебя расстраивать, -- делал он вывод, -- но, кажется, мы не туда попали.
Его подавленность передавалась новоприбывшим.
"Небоскребы, небоскребы, А я маленький такой!" -- старался усатый человек на сцене.
-- Шкет, прикинь, это чисто Токарев, -- попытался воспрять духом Гольдфарб.
-- Да и хер с ним, -- отмахнулся Шкет.
Гольдфарбы поселились в двухкомнатной квартире на Четвертом Брайтоне. Пока их содержала НAЯНA, Григорий не решался открыть счет в банке. Он присматривался, слушал, что говорят знающие люди. Предложения вступить в бизнес были самыми разными -- от покупки винного магазина до торговли наркотиками. Шкет с поразительной скоростью сел.
Он приобрел в Пенсильвании четыре "Форда-Торуса" и, подсунув доверчивым американцам "куклу", едва покрывшей стоимость одного, перепродал их в Бостоне. Шкета погубило то, что он не знал английского и мог действовать только при помощи переводчика -- Яника Ройтера. Яник жил в Филадельфии с мамой, не отпускавшей его из дому больше чем на полчаса. По истечении этого времени, она начинала вести долгие беседы с телевизором и, если ей случалось выйти на улицу, по многу дней не могла найти обратную дорогу домой. Обычно ее привозили в полицейской машине. Мать Ройтера тронулась через год после приезда, когда старшего брата Яника зарезали латиноамериканские коллеги, не поделившие с ним выручку от продажи 15 килограммов марихуаны.
Будучи привязанным к Ройтеру, Шкет и во второй раз поехал в Пенсильванию, где напоролся на диллера, которого предупредили о возможном появлении мошенника, ловко управляющегося с пересчетом толстых пачек наличных. Он снова вставил продавцам "куклу", после чего оказался в полицейском участке городка Лихэйтон. Перепуганное сознание судорожно пыталось освоить незнакомое слово: "Охламон! Лэхайм! Охламон! Лэхайм!"
Гольдфарб все больше склонялся к тому, чтобы купить видеопрокатный пункт, и его свели с человеком из Киева, с которым у него были общие знакомые. Тот искал компаньона. Их совместное предприятие так и осталось нереализованным.
В день, когда НAЙAНА известила Григория о снятии с довольствия, его обокрали. Он еще вник в содержание официального письма, когда, выйдя из лифта, увидел, что дверь его квартиры не заперта. Сквозняк то приоткрывал ее, то прихлопывал, лязгая замком. Окно гостиной, выходившее на пожарную лестницу, было открыто настежь, и ледяной холод вливался через него в перевернутый вверх дном дом. Замок с решетки, предусмотрительно поставленной на окно, был аккуратно снят и лежал на полу. Телевизор не унесли только потому, что по размерам он не прошел в окно. Видеомагнитофон отсутствовал. Среди разбросанной одежды лежал пустой дипломат с раскуроченным номерным замком, где хранилось все состояние Гольдфарба.
Соседи утверждали, что ворует суперинтендант. Он жил на первом этаже. Пьяная и грязная его подруга с ужасным синяком под глазом открыла дверь и сказала, что супер болен. Григорий отшвырнул ее и вошел в квартиру, преследуемый испаноязычными проклятиями. Супер спал в скомканных и грязных простынях мертвым сном смертельно пьяного человека. Конечно, Гольдфарб мог дождаться, когда тот протрезвеет, и вышибить из него деньги вместе с жизнью. Но ворвавшись в квартиру, он засветилися, потерял алиби и поэтому отложил расправу до лучших времен.
Когда Григорий в роскошной кожаной куртке и Валентина в рыжей лисьей шубе пришли оформлять пособие велфэра на Ист 16-ю стрит в Манхэттене, у них потемнело в глазах. В огромном помещении, выкрашенном казенной желтой краской, дремала унылая нищета. Сбившиеся в отдельные группки русские, выдавали себя взглядами, в которых ненависть к окружающему мешалась со страхом и униженной мольбой о помощи.
Григорий пребывал в таком невыносимом, черном отчаянии, что готов был бросить все и вернуться назад в Союз, где деньги искали его, а не он их.
Валентина первой нашла выход из положения.
"Иди в такси, -- сказала она. -- Машину-то водить ты умеешь".
"Что?! -- поразился он. -- А что я там заработаю?!"
Очень скоро их отношения стали походить на обычные в тех семьях, где на счету каждая копейка. Она стала некрасивой и злобной, он -- жадным и раздражительным. Предлагаю читателю самому уже представить последовавшие домашние скандалы, метания по городу в попытках найти нужных людей, некогда крутившихся возле "Красной" и "Лондонской", переезд Валентины к неизвестным ему друзьям в Бронкс, безъязыкость, одиночество, безденежье. Загнанный в угол, не представляющий, какой следующий шаг предпринять, он вспомнил о Спице.
Видимо, по его голосу она поняла, что отказывать ему нельзя.
Они поселились в скромной квартире с одной спальней на Медисон-авеню, прямо над синей вывеской банка "Чейз". Григорий надел кипу и начал посещать синагогу на Ист 83-й стрит. Он искал наставника, который мог объяснить ему, как вернуться к потерянными корням, и нашел его в румяном лице господина Жаботинского. Хаим Жаботинский держал ювелирный магазин на 47-й стрит. Несколько раз они сходили в ресторан. Первый раз с женами. Господин Жаботинский с сухонькой госпожой Жаботинской, Григорий (...какое несчастье, такая молодая, привлекательная женщина...) со своей глухонемой супругой Леей.
Григорий советовался. У него был небольшой капитал, и он хотел открыть собственное дело. Господин Жаботинский обещал помочь. Они договорились об оптовой покупке.
Жаботинский пришел к нему в пятницу утром с толстым саквояжем и двумя сотрудниками. Черные лапсердаки плотно облегали их крутые плечи. Пока Григорий, устроившись за столом, рассматривал в лупу принесенные драгоценности, глухонемая Лея подала кофе и печенье. Как обученные говорить глухонемые, она неожиданно громко каркнула, что все поданное "кошер". Гости были смущены. Лея, обворожительно улыбаясь, покинула комнату. Она не была какой-нибудь шиксой, но что-то неуловимое, развратное чувствовали в ней эти проницательные люди.
Григорий изучал товар. В бриллиантах искрилось, едва сдерживая смех, близкое счастье.
-- Господа, -- он поднялся из-за стола. -- Я не могу сказать, что я вам не доверяю, но, выходя в банк за наличными, я бы хотел, чтобы все это полежало в сейфе.
Он снял со стены морской пейзажик, и гости увидели за ним серую дверцу. Они переглянулись, поскольку подобное развитие событий не предполагалось. Упреждая возможные, сомнения, Гольдфарб открыл сейф и продолжил:
-- Господа, шифр замка, как вы понимаете, знаю только я, -- он взял футляры и положил их в сейф. -- А ключ я оставляю вам. Я вернусь с наличными через минут 15-20. Нет смысла хранить дома наличные, когда под тобой -банк.
Он постучал ногой по полу.
-- О'кей, -- кивнул Жаботинский и посмотрел на часы.
-- Если вам понадобится что-либо, -- Гольдфарб вручил ключи ювелиру, -зовите Лею.
Он указал Жаботинскому на кнопку рядом с выключателем и нажал ее. Жаботинский увидел, как в коридоре зажглась красная лампочка -- и тут же в дверях показалась Лея.
Григорий махнул рукой, и она, понимающе закивав, ушла.
-- Поторопимся, -- сказал Жаботинский. -- Сегодня пятница, я бы хотел все закончить до начала шабеса.
Когда Жаботинский произносил эти слова, Лея-Спица, открыв в соседней комнате заднюю дверцу сейфа, разгрузила его содержимое в сумку и выскользнула из квартиры. Через полчаса Жаботинский и его спутники обнаружили, что в квартире, кроме них, никого нет.
Что же, спросите вы, привело беглецов в "Нойвальд-хаус" на окраине Вены?
Видимо, натерпевшись от Aмерики, сам того не осознавая, Гольдфарб стремился вернуться к той черте, за которой осталось не просто его комфортабельное прошлое, но сама жизнь. Хотел ли он вернуться в Одессу? Не знаю. Для начала ему нужно было время, чтобы прийти в себя, решить, что делать с оказавшимся в его руках состоянием, и в качестве временной крыши над головой он выбрал знакомый пансионат на Нойвальд-штрассе, из окон которого открывался вид на старинный парк с белокаменными скульптурами атлетов.
Его погубил, если так можно выразиться, литературный прием, которым он пользовался, садясь за карточный стол. Как бы безбожно он ни врал, очаровывая лохов, он всегда начинал с зерна истины, вокруг которого плел липкую паутину вымысла.
-- Ярмолинец, -- сказал он мне однажды, когда мы сидели с ним на ступеньках аркадийских Плит, полоща ноги в еще чистой воде Черного моря. -Мне кажется, что если бы я записывал свои прогоны, из них бы выходили готовые рассказы. Даже романы. Начинаю я всегда с правды. С чистой правды. Потом идет импровизация. Нет, это что-то от Бога. Если бы ты умел сочинять, как я, ты бы уже был Хемингуэем.