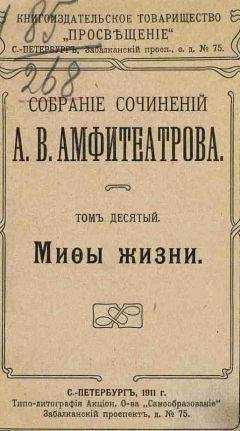Какъ вернулъ Богъ здоровье дочери, сиръ Гюи распродалъ почти половину своихъ земель, вооружилъ, на вырученныя деньги, восьмерыхъ дюжихъ молодцовъ и отбылъ. Дочь онъ поручилъ Петру Бометцу, своему старому капеллану, человѣку святой жизни и испытанной вѣрности. Кромѣ того, онъ поставилъ свои имѣнья подъ покровительство Воссельскаго аббатства, которому подарилъ за то изрядный кусокъ земли.
Четвертый годъ рыцарь сражался въ Святой Землѣ, а дочери его — на родинѣ — было худо. Чуть уѣхалъ старый Гюи, набросились на его землю разбойники — сосѣдніе дворяне. Грабили безъ стыда и совѣсти все, до чего рука хватала, и не было на нихъ ни суда, ни управы. Потому что сюзеренъ страны, монсеньоръ Алларіи, дряхлый архіепископъ Камбрейскій, умѣлъ читать только нравоученія, а его отчаянные вассалы не очень-то боялись и петли.
Долго пили сирота и опекунъ ея горькую чашу обидъ и притѣсненій, — наконецъ, слышитъ Петръ Бометцъ: вернулся въ свои владѣнія Гильомъ сиръ де-Коньикуръ, могучій и честный герой, другъ императора Фридриха I, братъ по оружію сира Гюи изъ Утрео. И поклонился Бометцъ сильному сосѣду защитѣ, и отвѣчалъ монсеньоръ де-Коньикуръ:
— Привези Алису въ мой замокъ. Вѣчнымъ спасеніемъ клянусь, что осушу слезы дочери крестоносца, и — горе негодяю, который посмѣетъ тронуть ея земли. Назови меня послѣднимъ подлецомъ и предателемъ, если я и жена моя, благородная Изабелла де-Бетанкуръ, не примемъ ее, какъ родную дочь, и не дадимъ ей всего, что прилично дѣвицѣ высокаго происхожденія.
Вотъ повезъ Петръ Бометцъ Алису въ замокъ Гильома де-Коньикуръ. Такъ какъ путь лежалъ недалеко, то ѣхали они вдвоемъ, безъ стражи, верхами.
И, — не доѣзжая замка, на лѣсной тропѣ, - два пьяныхъ всадника загородили имъ путь. Одинъ былъ рыцарь, а другой — его ловчіи. Еле держались они на сѣдлахъ отъ вина и заговорили къ капеллану и спутницѣ его безстыжія рѣчи. Когда же монахъ укорилъ ихъ и требовалъ свободнаго пути, негодяи сбросили его съ коня. Петръ Бометцъ ударился теменемъ о пень и, не пикнувъ, умеръ. А бѣдняжку Алису разбойники утащили въ лѣсъ. На завтра нашли въ трущобѣ ея трупъ; она была обезчещена, и на горлѣ ея зіяла глубокая рана.
Народъ говорилъ:
— Знаемъ, чей тутъ грѣхъ. Это сработали пьяница Симонъ — недостойный сынъ Гильома де-Коньикуръ — и его дьяволъ-конюхъ Амальрикъ. Недаромъ видѣли ихъ вчера, какъ они, будто черти, въ перепугѣ мчались на взмыленныхъ коняхъ изъ лѣса къ замку.
И окружилъ народъ замокъ де-Коньикуръ, и требовалъ мести.
И, такъ какъ они очень шумѣли, грозили топорами и вилами, бросали въ стѣны замка камнями и грязью, то убійцы очень испугались. Они велѣли поднять крѣпостные мосты, запереть ворота, протянуть цѣпи и разставить рогатки. Народъ же, видя это, еще больше убѣдился въ преступленіи и, выставивъ впередъ носилки съ двумя мертвецами, взывалъ о мести.
— Сиръ Гильомъ де-Коньикуръ, дай странѣ правый судъ. Сиръ Гильомъ де-Коньикуръ, покажи, что нѣтъ пристрастія въ твоемъ рыцарскомъ сердцѣ.
Тогда вышелъ къ народу самъ старый честный сиръ Гильомъ де-Коньикуръ — одинъ, безъ панцыря и opyжія, и плакалъ надъ трупами, и клялся отомстить преступленіе безпощадною местью. И народъ разошелся, успокоенный, потому что зналъ, что слово сира Гильома твердо.
Задрожалъ Симонъ, какъ отецъ позвалъ его на расправу. И сталъ онъ тянуть алое вино, чтобы возвратить себѣ храбрость. И, опьянѣвъ, пошелъ къ отцу. А негодный конюхъ Амальрикъ прокрался, слѣдомъ за нимъ, въ покой сира Гильома де-Коньикуръ, спрятался за колонну и слушалъ.
Такъ говорилъ сыну сиръ Гильомъ де-Коньикуръ и трясся отъ гнѣва.
— Ты убійца, подлецъ и предатель. Ты годенъ только на то, чтобы убивать поповъ по дорогамъ, насиловать дѣвчонокъ по лѣсамъ, да удирать отъ мужиковъ, когда они грозятъ тебѣ дреколіемъ, бросаютъ въ тебя камнями и грязью. Не рыцарскія шпоры приличны тебѣ теперь, а тонзура монаха. Ступай, постригись и проведи въ покаяніи остатокъ преступныхъ дней. Проклятъ ты мною и на этомъ, и на томъ свѣтъ. Ничего ты отъ меня не получишь. Все свое имущество я жертвую Воссельскому аббатству — на вѣчный поминъ по душамъ дѣвицы Виллерсъ де-Утрео и капеллана ея, неправедно тобою убіенныхъ.
Спьяну, Симонъ расхрабрился и сталъ наступать на отца и кричать:
— Этого ты не сдѣлаешь. Я не позволю. Этого не будетъ.
А старикъ вспылилъ и ударилъ его по лицу перчаткою. Тогда Симонъ выхватилъ кинжалъ, а конюхъ Амальрикъ выскочилъ изъ засады и набросился на сира Гильома де-Коньикуръ съ боевою сѣкирой. И убили они стараго рыцаря вдвоемъ, — сынъ и слуга, — и, отрезвѣвъ только послѣ преступленія, стояли въ безуміи, не зная, что теперь дѣлать.
Амальрикъ предложилъ:
— Бросимъ его въ ровъ, съ подъемнаго моста. Никто не увидитъ насъ, кромѣ часового, а этого убрать будетъ уже мое дѣло. Когда трупъ найдутъ, мы скажемъ, что сира Гильома убили вассалы дѣвицы Виллерсъ де-Утрео, въ отмщеніе за гибель своей госпожи, и всѣ намъ повѣрятъ.
Такъ они рѣшили сдѣлать, и все имъ удалось. Только — трупъ, брошенный съ моста, не тонулъ въ полномъ водою рву, но, упавъ на мелкое мѣсто, сталъ стоймя и торчалъ, — прямой, какъ бренно, съ чернымъ лицомъ, весь въ крови… и руки его были простерты впередъ, точно мертвецъ все еще проклиналъ сына. Это имѣло такой безобразный и страшный видъ, что Амальрикъ закричалъ благимъ матомъ и убѣжалъ, куда глаза глядѣли. Никогда и никто уже не встрѣчалъ его въ тѣхъ мѣстахъ; Богъ вѣсть, куда онъ сгинулъ со свѣта. А Симонъ — наоборотъ — потерявъ присутствіе духа, не могъ сдвинуться съ мѣста. На разсвѣтѣ его нашли на валу: онъ стоялъ — дыбомъ волосы — какъ оцѣпенѣлый, и смотрѣлъ, дико вытаращивъ глаза, на страшный трупъ, все простиравшій къ нему окоченѣвшія руки. Напрасно звали его, — онъ не видѣлъ и не слышалъ. Кто-то осмѣлился коснуться руки убійцы: тогда неподвижность его объяснилась, — онъ былъ мертвъ. Bсѣ разбѣжались въ ужасѣ. Замокъ опустѣлъ, какъ отъ чумы. Отцеубійца и жертва его такъ и остались стоять навѣки одинъ противъ другого. Никто не рѣшился придти ихъ похоронить.
Замокъ оставался пустымъ и проклятымъ мѣстомъ двѣсти лѣтъ. Наконецъ, онъ достался по наслѣдству сиру Жаку Балдуину де-Виллерсъ Камбрезійскому. Любопытствуя провѣрить родовую легенду, онъ изслѣдовалъ замокъ и — въ изсохшемъ рву старинныхъ укрѣпленіи, нашелъ человѣческій скелетъ, въ стоячемъ положеніи, съ грозно вытянутыми впередъ руками. А, въ недалекомъ разстояніи, — съ вала, — другой стоячій скелетъ, казалось, еще смотрѣлъ на свою жертву, въ движеніи ужаса и отчаянія. Тогда сиръ де-Виллерсъ, призвавъ npiopa изъ Воссельскаго аббатства, приказалъ ему отслужить панихиду за упокой души сира Гильома де-Коньикуръ и окропить оба скелета святою водою. Они распались прахомъ. Замокъ сталъ обитаемъ. И, лишь въ ночь преступленія, проклятая душа Симона, изъ года въ годъ, возвращается изъ ада и сидя на крышѣ, уныло воетъ въ трубу. А, впрочемъ, это — можетъ быть, и кошки.
На берегъ моря царевна идетъ, гордая Аделюцъ, бѣлокурыхъ фризовъ царевна. Собирать пестрыя раковины она идетъ, янтарь, водяныхъ коней и морскія звѣзды. Потому что силенъ былъ утренній прибой, и всѣ отмели чудами съ глубокаго дна покрылись.
Странная птица у моря сидитъ — смотритъ на Аделюцъ дикими глазами. Какъ темная ночь, черны крылья ея, и дыбомъ торчатъ, всѣ врозь, на ней перья. Пламя сверкаетъ въ мрачномъ взорѣ ея, и ростъ ея — ростъ богатыря-человѣка. Зеленый трупъ держитъ птица въ когтяхъ, и клювъ ея окровавленъ.
— Здравствуй, Аделюцъ! Здравствуй, царевна-краса. Потому что красивѣе тебя нѣтъ дѣвы на свѣтѣ. Головою ты выше своихъ подругъ: золотыя косы твои падаютъ ниже колѣна. Какъ первый снѣгъ на горахъ, ты бѣла, и розами цвѣтутъ твои щеки. Перси твои — какъ двѣ пѣнныхъ волны, а глаза синѣе, чѣмъ море, гдѣ ловлю я блѣдные трупы.
Пѣвцы о тебѣ по свѣту славу поютъ, за синимъ моремъ звучатъ о красѣ твоей пѣсни. Только пѣсню услышавъ, по пѣснѣ одной, — храбрый викингъ Айдаръ въ тебя влюбился. Только пѣсню услышавъ, по пѣснѣ одной, — корабли онъ черные построилъ. Только пѣсню услышавъ, по пѣснѣ одной, — на корабляхъ онъ къ тебѣ черезъ море пустился. Но не викингу было тобою владѣть. Клянусь, достойна ты лучшаго ложа. И вихорь, и бурю ему я на встрѣчу поднялъ, и ко дну пошли корабли, и гребцы, и бойцы съ кораблями. Захлебнулся студеною волною Айдаръ, и вотъ я, веселый, — сижу, клюю его бѣлое тѣло.
Къ матери Аделюцъ въ страхѣ идетъ, къ Утэ-царицѣ несетъ печальныя вѣсти.
— Страшная птица мнѣ прокаркала ихъ, страшная птица въ черномъ опереньи. Былъ то, должно быть, самъ дьяволъ изъ бездны морской или проклятый колдунъ, слуга адскаго мрака.
Утэ-царица, блѣдная, дрожитъ.
— Храни тебя, Аделюцъ, Богъ, потому что тебѣ грозитъ великое несчастье. Не дьяволъ то былъ изъ бездны морской, но ужъ лучше бы онъ былъ самъ дьяволъ.