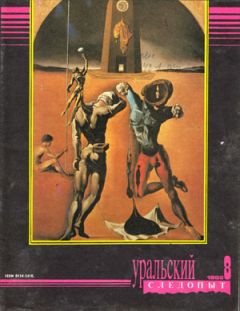— Смотри, коли грамотная.
Барышня поняла, что мужикъ не въ себѣ, испугалась, хочетъ уйти изъ лавки, а Демьяновъ обрадовался, что на этакаго Божьяго младенца попалъ, и ну куражиться.
— Эхъ ты, говорить, дама изъ Амстердама! нешто такъ покупательницы, ежели которыя хорошія, поступаютъ? Это что-же за модель? Книги ты у меня разворошила, а пользы я отъ тебя гроша не имѣю… Этакъ всякій съ улицы будетъ въ лавку лѣзть, да товаръ ворочать, — на васъ и не напасешься!
И пошелъ, и пошелъ.
Я тѣмъ временемъ стоялъ черезъ улицу, приторговывалъ малину у разносчика. Слышу я, какъ Демьяновъ пуще и пуще приходить въ азартъ, а барышня совсѣмъ сробѣла и со всякой кротостью представляетъ ему резоны. Она ему «вы», да «что вы», да «пожалуйста», а этакого буйвола нешто образованными словами проберешь? Не стерпѣла моя душа, перешелъ я черезъ улицу.
— Барышня, говорю, ступайте себѣ спокойно домой; а ты, Потапъ Демьянычъ, что озорничаешь? И чтобы мою жилицу обижать, того я тебѣ никакъ не дозволю.
Крѣпко мы съ Демьяновымъ побранились, но съ той поры барышню и мою Анну Порфирьевну водой не разольешь.
Прихожу какъ-то домой, а жена ко мнѣ съ новостью.
— Анфиса Даниловна гостя ждетъ. Братецъ къ ней ѣдеть на побывку.
— Это какой-же такой братецъ?
— Иванъ Даниловичъ. Они состоятъ въ Варшавѣ, въ полку, а сюда въ отпускъ ѣдутъ. Ужъ и рада-же Анфиса Даниловна! Господи!.. только и словъ: Ваня ѣдетъ, да Ваня ѣдеть…
Точно, что барышню стало и не узнать: веселая такая, даже какъ будто помолодѣла — глаза блестятъ, съ щекъ желтизна сошла. Говорить безъ умолку, и все объ этомъ самомъ Ванѣ. Пречудные ея разсказы были: то — какъ ей этотъ Ваня десяти лѣтъ, глазъ подбилъ, то — какъ онъ маменькины часы разбилъ, а она на себя вину приняла, и ее, неповинную, высѣкли. И всѣ такого-же сорта: Ваня что-нибудь набѣдокурить, а Анфиса въ отвѣтѣ. Порядочнымъ баловнемъ ростили малаго.
Явился, наконецъ, и Ваня, только не на радость Анфисѣ Даниловнѣ. Обѣщалъ онъ пріѣхать, а на самомъ-то дѣлѣ его привезли. Въ отдѣлку былъ готовъ бѣдняга! хоть заживо панихиду ему пѣть. Барышня сама чуть жива осталась, какъ увидала брата въ такомъ состояніи:
— Да какъ-же я не знаю? да давно-ли ли боленъ? да отчего не писалъ?.. Какъ же ты служилъ, если ты нездоровъ?..
— Я уже полгода, какъ не на службѣ, - отвѣчаетъ Ваня.
И оказались тутъ, господинъ, для нашей барышни бѣда и позоръ не малые. Иванъ Даниловичъ любилъ въ картишки поиграть, это Анфиса Даниловна говорила намъ и раньше, — ну, наткнулся на какого-то шулера-нѣмчика, тотъ его и обчистилъ. Иванъ Даниловичъ отыгрываться, да отыгрываться; глядь, дошла очередь и до казеннаго ящика; ухнули въ карманъ жулика какія-то библіотечныя, что-ли, суммы… пустяковина, а пополнить-то ихъ неоткуда; какой кредитъ у офицера, коли онъ однимъ жалованьемъ живетъ, да еще и отъ игры не прочь? Думалъ, думалъ Иванъ Даниловичъ и додумался до грѣха: выпалилъ въ себя изъ пистолета… Оставилъ записку товарищамъ, что, молъ, такъ и такъ, не подумайте, друзья, что я подлецъ и воръ, а одно мое несчастье, прошу простить мое увлеченіе, плачу за грѣхъ своей жизнью… Однако, выходили его, не дали покончиться. Дѣло замяли, потому что — гдѣ ужъ наказывать человѣка, коли онъ самъ себя наказалъ, и, хоть не убился сразу, а все-таки жизнь свою сократилъ? Госпитальный докторъ прямо сказалъ, что Пестрядеву и года не протянуть: легкія пуля ему попортила, видите-ли. Убрался онъ изъ полка, и поѣхалъ къ сестрѣ умирать.
Скажу вамъ, сударь, не слишкомъ то онъ мнѣ нравился, покойникъ, не тѣмъ будь помянутъ. Первое, что хоть на кого грѣхъ да бѣда не живутъ, кто Богу не грѣшенъ, царю не виноватъ, а все какъ-то мнителенъ я насчетъ того, ежели кто подъ мораль попадетъ, а второе — ужъ больно онъ сестрицу свою пренебрегалъ: помыкалъ ею хуже, чѣмъ горничной… Недѣли двѣ, пока онъ былъ еще на ногахъ, куда ни шло, не очень командировалъ; а какъ слегъ въ постель, да пошли доктора и лекарства, — задурилъ хуже бабы. «Анфиса, подай! Анфиса, принеси! Анфиса, воды! Анфиса, лекарство! Анфиса, поди на кухню, сама сдѣлай бульонъ: кухарка не умѣетъ… Анфиса, не смѣй уходить: мнѣ одному скучно»… Бѣда! Горемычная барышня совсѣмъ съ ногъ сбилась. И жалко-то ей брата до крайности, и растерялась-то она. Даже и лицо у ней какъ-то измѣнилось за это время: все она, бывало, какъ будто ждетъ, что на нее крикнуть или дадутъ ей подзатыльникъ, все спѣшитъ, торопится; сколько посуды она за болѣзнь брата перебила, — бѣда! потому что не было такой минуты, чтобъ у ней руки не дрожали. Когда она спала, постичь не могу: Иванъ Даниловичъ страдалъ безсонницей, и, бывало, какъ ни проснешься ночью, звенитъ у нихъ въ квартирѣ колокольчикъ, — значитъ, больной требуетъ къ себѣ сестру.
Видалъ я ихъ вмѣстѣ. Уродуетъ эта чахотка человѣка: самъ онъ не свой становится; и не хочетъ злиться, а злится изъ-за всякой малости; и не хочетъ обижаться, а обижается, слезы сами текутъ изъ глазъ. Такъ вотъ и Иванъ Даниловичъ былъ самъ въ себѣ не воленъ; ругалъ онъ сестру походя, при мнѣ однажды пустилъ въ нее чашкой… даже мнѣ вчужѣ совѣстно стало. А Анфиса — какъ каменная, хоть бы глазомъ мигнулъ. Онъ лается, а она подушки поправляетъ; дерется, а она лекарство наливаетъ. Вотъ, вѣдь, и робкая, и застѣнчивая какая была, а, когда надо стало, объявила свой настоящій характеръ.
Всегда она очень любила брата, но — чѣмъ онъ особенно ее растрогалъ, такъ это своей исторіей съ полкомъ. Когда она стала упрекать брата, что онъ не пожалѣлъ себя, что вмѣсто того, чтобы стрѣляться, онъ-бы лучше прислалъ ей депешу, а она-бы ему выслала деньги, Иванъ Даниловичъ сказалъ:
— Хорошо. Прислала-бы ты деньги, выручила-бы на этотъ разъ, а завтра попался бы мнѣ другой Феркель, и опять вышла-бы та же штука. Я свою проклятую натуру знаю. Потому и не далъ тебѣ знать. Я такъ рѣшилъ, что теперь я воръ по несчастію, а если у тебя начну деньги тянуть, такъ буду воръ-подлецъ, съ расчетомъ, да и брать-то у тебя, Фиса, деньги — все равно, что снимать суму съ нищаго.
Этими словами онъ ее и пронзилъ. Трогательно ей стало, какъ это братъ жизни не пожалѣлъ, а ее не захотѣлъ обидѣть.
Умеръ Иванъ Даниловичъ. Что тутъ, сударь, съ барышней дѣлалось — не перескажешь! Посѣдѣла совсѣмъ, не плакала, а ревѣла-съ… вотъ вродѣ, какъ коровы ревутъ, когда въ полѣ кровь найдутъ! — и все безъ слезы, одинъ крикъ. Больше всего она проклинала себя, что «проспала Ваню»: умеръ-то онъ, изволите видѣть, ночью, никто и не слыхалъ… Вошла Анфиса Даниловна утромъ къ нему въ комнату, а онъ уже холодный. Она такъ и повалилась около постели. И совсѣмъ напрасно она себя на этотъ счетъ тревожила: лицо у покойника было такое мирное, покойное, — Должно быть, легко, пожалуй, даже, что и во снѣ умеръ. Мѣсяцъ, другой — не утишается Анфиса Даниловна. Комнату эту, гдѣ Иванъ Даниловичъ умеръ, такъ и оставила, какъ при немъ: стула въ ней не перемѣнила; сама ее и убирала, и подметала, и стирала пыль съ вещей и книгъ; прислугѣ войти въ «Ванинъ кабинетъ» Боже сохрани, — кротка-кротка барышня, а тутъ, ой-ой, какъ бушевала!.. Во время болѣзни покойнаго, она взяла себѣ привычку сидѣть у дверей его кабинета. Тутъ и кресло себѣ поставила, и рабочій столикъ. Сидитъ бывало, читаетъ или шьетъ; братъ позвонитъ — она тутъ, какъ тутъ. Теперь звонить было некому, но она привычки своей не прекратила, и стало это кресло самымъ любимымъ ея мѣстомъ въ квартирѣ. Моя Анна Порфирьевна часто заходила ее провѣдать. Замѣтила она, что барышня отъ тоски желтѣетъ, таетъ день-ото-дня.
— Вы бы, — говоритъ, — Анфиса Даниловна, доктора позвали: вы больны.
— Нѣтъ, Анна Порфирьевна, я здорова всѣмъ, только сердце у меня неспокойное. Какъ ночь, такъ оно у меня и начнетъ дрожать, точно осиновый листъ. Дрожитъ, дрожить… ажъ душно мнѣ отъ этого станетъ, и испарина по всему тѣлу…
— Какое-же это здоровье?! Нѣтъ, вы полечитесь…
Докторъ назвалъ болѣзнь Анфисы Даниловны какимъ-то мудренымъ словомъ. А она въ то время такъ извелась, что когда докторъ вышелъ отъ нея, я потихоньку зазвалъ его къ себѣ.
— Что, — говорю, — почтенный, очень плоха наша жилица? Насчетъ Ваганькова кладбища вы какъ полагаете?
— Нѣтъ, — отвѣчаетъ, — съ ея болѣзнью иной разъ сто лѣтъ живутъ, а иной разъ и не увидишь, какъ умираютъ. Въ сердцѣ у ней большія неправильности. Вы ее берегите, чтобъ она не волновалась, не пугалась… Вотъ брата она очень любила: хорошо-бы ее развлечь, а то она только о покойникѣ и думаетъ, а думы эти болѣзнь ея усиливаютъ.
Стали мы барышню развлекать, однако, она на наши развлеченія не поддавалась; засѣла дома — и никуда ни ногой… Впрочемъ, на мои именины пришла къ намъ честь-честью, поздравила меня, усѣлась чай пить. Сидимъ, бесѣдуемъ, только вдругъ, надъ головою — топъ! топъ! топъ!.. А наша столовая какъ разъ приходится подъ покойниковой комнатой.
Какъ вскрикнетъ наша барышня, какъ затрепещется! чашку оттолкнула, сорвалась съ мѣста.


![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)