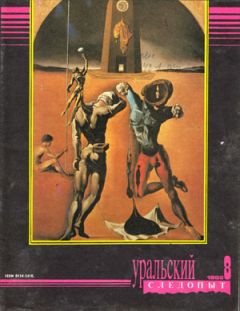Какъ вскрикнетъ наша барышня, какъ затрепещется! чашку оттолкнула, сорвалась съ мѣста.
— Вотъ, кричитъ, вотъ… вы меня зовете изъ дому: видите, уйти нельзя, — уже кто-то вошелъ, распоряжается…
Лицо стало багровое, глаза выскочить хотятъ — совсѣмъ не Анфиса Даниловна, а точно покойный Иванъ Даниловичъ. когда приходилъ въ гнѣвъ.
Побѣжала она къ себѣ на верхъ, а я за нею, такъ какъ вижу, что женщина внѣ себя, и если найдетъ прислугу въ кабинетѣ, не обойтись дѣлу безъ скандала и мирового. Входить въ квартиру — по черной лѣстницѣ: кухарки нѣтъ, и слышно, какъ она во дворѣ съ сосѣдскимъ дворникомъ ругается черезъ заборъ. А тѣмъ временемъ въ покойниковой комнатѣ — трр!.. что-то грохнуло. Анфиса Даниловна побѣжала туда, какъ львица какая-нибудь… а я остался, — и только что она за дверью скрылась, какъ изъ кабинета, за ея хвостомъ, что называется, шмыгъ наша Гашка. Я такъ и обмеръ: ну, — думаю, — замѣтить Анфиса Даниловна, кто у нея тамъ орудовалъ, во вѣки не проститъ!.. Бѣги, — говорю, — скорѣй, пострѣленокъ, пока не поймали! А Анфиса Даниловна въ ту-же минуту зоветъ меня.
— Иванъ Самсоновичъ! пожалуйте сюда.
Вошелъ я въ кабинетъ: чистота, порядокъ, портретъ покойнаго на стѣнѣ… любоваться можно! Анфиса Даниловна стоитъ среди комнаты блѣдная, руками разводитъ…
— Здѣсь, — говоритъ, — никого нѣтъ, Иванъ Самсоновичъ.
— Точно такъ, — говорю, — Анфиса Даниловна.
— А между тѣмъ, Иванъ Самсоновичъ, посмотрите: стулъ опрокинутъ, карандашъ на полу, бумаги разбросаны… Я этого не понимаю…
— И я тоже-съ.
Постояла она этакъ, постояла, покачала головой, пожевала губами, да вдругъ — на колѣни передъ образомъ, и давай класть поклоны. Я вижу, что человѣкъ молится, — зачѣмъ-же ему мѣшать?.. Вышелъ тихонько.
Гашкѣ я задалъ хорошую гонку.
— Зачѣмъ тебя туда, ненужная, занесло?
— Да мнѣ, дяденька, любопытно было, отчего Анфиса Даниловна никого не пускаетъ въ Иванъ Данилычеву комнату. Я и забралась, а, какъ услыхала, что вы идете, испугалась и спряталась за шкафъ. Анфиса Даниловна меня не замѣтили, я у нихъ за спиной выскочила за дверь, да вамъ и попалась…
И что-же, сударь? Вѣдь, вотъ, кажись, пустяки это сущіе, — однако, изъ-за пустяковъ этихъ пропала наша Анфиса Даниловна! Вообразилось ей, что это самъ покойникъ приходилъ съ того свѣта въ свой кабинетъ.
Э, думаю, съ такими мыслями въ головѣ ты, матушка, пожалуй, еще и въ Преображенскую больницу угодишь…
— Анфиса Даниловна! — говорю, — голубушка! Статочное-ли вы дѣло говорите? Иванъ Даниловичъ вашъ теперь со духи праведны скончавшеся, а вы его заставляете скитаться по землѣ, какъ стѣнъ какую-нибудь. Это только ежели кто въ смертельномъ грѣхѣ помретъ, или самъ на себя руки наложитъ, или опойца — такъ точно, того земля не принимаетъ, потому анафема проклятъ во вѣки вѣковъ, а братецъ отошли во всемъ аккуратно, благородно, по чину… Да ужъ, коли у васъ такое смятеніе чувствъ отъ этого случая произошло, такъ позвольте, я вамъ признаюсь, какъ было дѣло…
Разсказалъ. Она только улыбнулась.
— Спасибо вамъ, Иванъ Самсоновичъ, что вы такъ обо мнѣ заботитесь, хотите меня успокоить: даже Гашу свою не пожалѣли для меня, обидѣли… только вы напрасно наговариваете на дѣвочку… вамъ меня не обмануть. Мнѣ самъ братъ сказалъ, что это онъ былъ… Я его теперь каждую ночь вижу во снѣ.
Жутковато мнѣ стало.
— Какъ-же это-съ?… — спрашиваю.
— Какъ засну, такъ онъ и встанетъ передъ глазами. Сердитый онъ былъ въ тотъ разъ… Ты, говоритъ, ушла, а я безъ тебя скучалъ… ты не думай, что если я померъ, такъ ужъ и нѣтъ меня: я всегда около тебя…
— Что насчетъ Гаши я вамъ сказалъ, — тому вѣрьте-съ, а вотъ что покойниковъ вы видите во снѣ, - это нехорошо.
— Да, къ смерти…
— Нѣтъ, не то что къ смерти…
— Ужъ повѣрьте, что такъ, Иванъ Семеновичъ!.. У насъ былъ съ нимъ разговоръ. Я спрашиваю: Ваня! скоро я умру?.. А онъ мнѣ въ отвѣтъ языкъ показалъ… и потомъ ужъ другое начало сниться…
И такъ она внятно выговорила всѣ эти слова, что я даже по угламъ озираться сталъ, — неравно Иванъ Даниловичъ и мнѣ языкъ откуда нибудь покажетъ…
Пришла весна. Гашку нашу и не затащишь со двора въ комнаты. Дворъ зеленый, мягкій; играетъ дѣвченка съ сосѣдской ребятежью до цѣлымъ днямъ. Береза у меня во дворѣ растетъ, — несуразная, да суковатая такая, Богъ съ ней! а ребятамъ утѣшеніе: лазятъ по ней, какъ бѣлчата. Я ее раза три рубить собирался, да то ребята упросятъ, то жена, то Анфиса Даниловна: покойникъ очень эту березу одобрялъ, — сучья-то прямо въ окна ему упирались… Ну, и то сказать, дерево при домѣ, ежели на случай пожара, куда хорошо!.. Пожалѣлъ я березу — на свою голову.
Въ концѣ мая присылаетъ Анфиса Даниловна намъ письмо съ кухаркою. Добрые, молъ, хозяева! навѣстите меня, потому что сегодня день моего рожденія, и проводить его мнѣ одной очень грустно. Приходите, пожалуйста, поэтому обѣдать…
Отправились мы съ Анютой. Я съ того разговора, какъ вамъ передалъ, не видался съ Анфисой Даниловной. Перемѣнилась-таки она! И не то, чтобы похудѣла или пожелтѣла, — ужъ больше худѣть и желтѣть, какъ послѣ братниной смерти, ей было нельзя, — а какъ-то поглупѣло у ней лицо. Вотъ видѣли у святыхъ вратъ блаженненькіе сидятъ, милостыни просятъ? Такъ на нихъ стало похоже. Мы говоримъ съ нею, а она — и не разберешь — слушаетъ или не слушаетъ… улыбается, глаза — то въ одну точку уставитъ, какъ быкъ на прясло, то — и не догадаешься, куда она ихъ правитъ: знай — перебѣгаетъ безъ толку взглядомъ съ вещи на вещь. У меня дядя запоемъ пилъ, такъ у него точно такой же взглядъ бывалъ, когда ему черти начинали мерещиться!.. И никогда у нея прежде не было этой манеры ротъ разѣвать; а теперь, — чуть замолчитъ, да задумается, — глядь, челюсть и отвисла… Смотрю я на нее — чуть не плачу: такая беретъ меня жалость! дѣвица-то ужъ больно хорошаго нрава была!
Пообѣдали мы честь честью, — потомъ перешли въ гостиную, Анфиса Даниловна съ Анной Порфирьевной плетутъ бабьи разговоры, а я по комнатѣ хожу, дѣлаю моціонъ; такая ужъ у меня привычка, чтобы прохаживаться, поѣвши. Пощупалъ я ручку на двери въ распроклятый этотъ кабинетъ: заперто. То-то! — думаю, — такъ-то лучше: сны снами, а запираться не мѣшаетъ: тогда, пожалуй, не будутъ и стулья опрокидываться, и карандаши падать со стола…
Но только, что я это подумалъ, слышу, что за дверью какъ будто шорохъ какой-то, — не то шепчутся, не то смѣются… Я и сообразить не успѣлъ, въ чемъ дѣло, какъ вдругъ въ кабинетѣ — звонокъ, да порывистый такой, съ раскатомъ, точь въ точь, какъ покойникъ звонилъ… Меня, знаете, такъ и отшибло отъ двери, а Анфиса Даниловна вскочила съ мѣста:
— Что это? что это?..
Машетъ руками, глаза изо лба выпрыгнуть хотятъ — бѣлые совсѣмъ, прозрачные, какъ стекло… Сколько, кажись, не было у нея крови въ тѣлѣ, вся прилила къ лицу, и сдѣлалось оно отъ того совсѣмъ синее; на шеѣ жилы вздулись, какъ веревки.
А звонокъ вдругорядь… въ третій разъ… потомъ — бухъ о дверь! словно съ сердцемъ бросили его; звякнулъ и замолчалъ.
Какъ вскрикнетъ наша барышня:
— Ваня!.. иду!.. сейчасъ!.. Ваня!..
Подбѣжала къ двери, вынула ключъ изъ кармана, а въ замочную-то скважину попасть и не можетъ… ткнула раза два мимо, застонала, да и упала прямо лицомъ на дверь… Тутъ ей и смерть приключилась. Анатомили ее потомъ: умерла, царство ей небесное, какъ разъ тою самою мудреной болѣзнью, что докторъ насъ предупреждалъ…
Горько намъ было потерять Анфису Даниловну, а особенно горько, что опять-таки не кто другой въ ея смертномъ часѣ виноватъ, какъ наша Гашка. Забрались они съ такимъ-же сорванцомъ сосѣдскимъ мальчишкой по березѣ до самаго покойникова окна. А Анфиса Даниловна, какъ провѣтривала съ утра комнату, такъ и оставила окно открытымъ. Гашку и осѣнило: сёмъ-ка влѣземъ!.. Влѣзли. Попался имъ на глаза колокольчикъ: давай, испугаемъ нашихъ! — и ну звонить. Точно, что испугали, — могу сказать!
Никогда я свою Гашку пальцемъ не трогалъ, по тутъ, надо признаться, выдралъ. До сего времени помнитъ. Потому, помилуйте! она, конечно, дурного въ умѣ не имѣла, — однакоже, какой грѣхъ произошелъ черезъ нее!.. Я свою Гашку люблю до страсти, и все безпокоюсь насчетъ этой ея исторіи, то есть въ смыслахъ возмездія-съ… И хоть приходскій нашъ батюшка очень урезонивалъ меня: какое же тебѣ возмездіе, ежели тутъ — видимый перстъ Провидѣнія? — однако, я какъ-то… того!.. и посейчасъ въ сомнѣніи. Поэтому, я и охочъ разсказывать свою бѣду добрымъ людямъ, кто не скучаетъ слушать, хоть разсказывать-то ее, пожалуй, и не очень гоже: мало-ль, что другой подумаетъ? Что-же дѣлать, коли у меня душа говоритъ, и совѣсть ободренія проситъ?.. Мы люди темные: гдѣ намъ въ одиночку разобраться съ собою? На міру-то оно виднѣе: что — перстъ, что — не перстъ…
1911


![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)