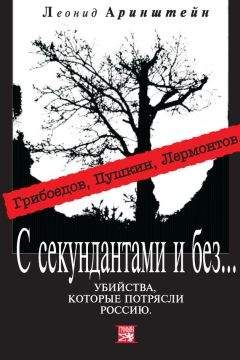Но, къ сожалѣнію, онъ не имѣлъ ни подготовки, ни привычки къ труду. Притомъ, какъ очень состоятельный человѣкъ, не могъ искатъ въ работѣ иной цѣли, кромѣ одной: убить докучное время. Онъ долженъ былъ сознаться, что не чувствуетъ интереса къ труду ради самаго труда, что всякое серьезное занятіе будетъ обращаться для него въ игрушку отъ нечего дѣлать, что, слѣдовательно, онъ и впредь осужденъ на ту-же, хмельную до пресыщенія, бездѣятельность.
Кому легко сдѣлать о себѣ такое открытіе — и утвердиться въ немъ? Словно самъ себѣ подписываешь приговоръ полной своей ненужности на землѣ. А что ненужно, зачѣмъ тому и быть? Ненуженъ, — и конецъ: убирайся прочь изъ жизни, очисти дорогу очередному изъ грядущаго поколѣнія… Много насъ, богатенькихъ Гамлетиковъ, заключило развитіе этого силлогизма револьверной пулей себѣ въ лобъ, а еще больше спилось съ круга и совсѣмъ утонуло въ грязи.
Волынскій былъ изъ самыхъ хрупкихъ Гамлетиковъ и, навѣрное, уже давно кончилъ-бы очень скверно, не подвернись ему какъ-разъ кстати, въ самое благое время, спасительница-любовь.
Когда Волынскій сошелся съ Антониной Павловной, ему минуло двадцать четыре года, а ей — уже тридцать девять лѣтъ. Разница огромная. Но, познакомившись съ Ридель, я нимало не удивился увлеченію моего друга.
Антонина Павловна — женщина классической красоты, настоящая Юнона: высокая, довольно полная, однако не утратившая ни стройности таліи, ни изящныхъ очертаній бюста. У нея кроткіе влажные глаза волоокой Геры и самыя нѣжныя и ласковыя уста во всемъ Петербургѣ.
Она превосходно одѣвается. Я не знаю женщины съ болѣе изящиыми манерами.
Исторія любви Волынскаго разсказана мнѣ имъ самимъ. Я напишу ее, какъ помню, его собственными словами.
Если выйдетъ аффектированно, не въ мѣру патетично, — не моя вина: онъ, вѣдь, и на самомъ дѣлѣ былъ аффектированный и лихорадочно-патетическій человѣкъ; простота и хладнокровіе были ему незнакомы.
* * *
«…Я познакомился съ Антониной у своей тетки Заневской. Случалось мнѣ встрѣчаться съ нею и въ другихъ домахъ. Я художнически преклонялся предъ красотой Антонины, чувствовалъ въ ней умное и доброе существо, и меня тянуло видѣть ее. Ни въ чьемъ иномъ обществѣ не дышалось мнѣ такъ легко, ни съ кѣмъ другимъ не бывалъ я болѣе откровеннымъ. Мы всѣ, молодежь, не прочь порисоваться и подчасъ навязать себѣ, шику ради, чортъ знаетъ какой характеръ. Но, когда Антонина говорила со мной, я, право, кажется, скорѣе вырвалъ-бы свой языкъ, чѣмъ позволилъ бы себѣ сказать ей неправду. Было такое время, что я самъ не подозрѣвалъ своей любви къ Антонинѣ. Для влюбленныхъ, мы стояли въ слишкомъ различныхъ условіяхъ жизни. Я — безпутный мальчишка, ничего не имѣющій за собою кромѣ состоянія и родового имени. Она — всѣмъ извѣстная и всѣми уважаемая femme d'esprit, дама-патронесса, почти уже зачислившая себя въ разрядъ старухъ. Въ Петербургѣ весьма скоро заговорили, будто я живу съ Ридель. Сперва я смѣялся, потомъ задумался: каковы, въ самомъ дѣлѣ, наши отношенія? По годамъ Риделъ почти могла быть мнѣ матерью, но я не чувствовалъ въ ней даже старшей сестры… Быть можетъ, дружба? Но развѣ есть дружба вообще, а между мужчиной и женщиной въ особенности? Притомъ, когда-же и какіе друзья занимали мое воображеніе, такъ упорно, чтобы грезиться мнѣ по ночамъ, чтобъ ихъ имена были моей первой мыслью поутру и послѣдней на сонъ грядущій? Ни для кого на свѣтѣ я ни на іоту не измѣнилъ-бы своего образа жизни, а послѣ знакомства съ Антониной я почти отсталъ оть кутежей и разошелся съ Zizi, между тѣмъ какъ всего недѣлю назадъ едва не поссорился изъ-за нея съ теткой Заневской. Это превращеніе сдѣлалось какъ-то само собою, непримѣтно. Всѣ качества, казавшіяся мнѣ въ женщинѣ идеальными, я поочередно видѣлъ въ своемъ воображеніи, представляя себѣ Антонину, и… Словомъ, пришлось-таки признать себя влюбленнымъ.
Въ одно изъ нашихъ свиданій Антонина приняла меня крайне сухо. Сплетни дошли до нея. Она высказала мнѣ, что, проживъ на свѣтѣ сорокъ лѣтъ съ безупречной репутаціей, ей поздно дѣлаться игрушкой злословія: я, какъ это ей ни грустно, долженъ прекратить свои посѣщенія.
Я сталъ защищаться и совсѣмъ неожиданно объяснился въ любви. Говорю „неожиданно“ потому, что за пять минутъ передъ тѣмъ я не рѣшался и подумать о такомъ смѣломъ шагѣ… Я говорилъ долго, сильно, страстно, и, когда кончилъ, Антонина сидѣла блѣдная, дрожащая, а въ глазахъ ея я прочиталъ, какъ сильно она меня любитъ и какъ боится любить.
— Вы также любите меня! Скажите мнѣ: да! — рѣзко сказалъ я.
— Это безуміе! — прошептала Антонина, — вы сами не знаете, что говорите.
— Я знаю, что люблю васъ!
— Вспомните, Иванъ Юрьевичъ, свои годы и мои!…
— Ваши годы!.. Вы моложе меня: вы чисты духомъ, вы мыслите, чувствуете, у васъ есть любимыя идеи, умныя занятія, полезныя цѣли, — жизнь ваша полна. Я пришелъ къ вамъ — съ испорченнымъ холоднымъ сердцемъ, съ пустою душей, пресыщенной и отравленной удовольствіями… Что же дѣлать, если жизнь одарила меня ими прежде, чѣмъ научила, какъ ихъ принимать! Удовольствіе съ дѣтства было моимъ міромъ. То былъ ничтожный міръ, не стоило въ немъ существовать, и я проклинаю его ничтожество! Я искалъ ему замѣны, въ разныя окна глядѣлъ на свѣтъ, но отовсюду видѣлъ его чуждымъ себѣ и понялъ, что не міръ ничтоженъ, а жалокъ и ненуженъ я, неумѣющій приспособиться къ нему и найти въ немъ свое мѣсто. И, значить, осталось мнѣ одно: махнуть на себя рукой, превратиться въ живого покойника, въ буйное и безпутное, но мертвое привидѣніе — вродѣ тѣхъ, какъ доказываютъ въ „Робертѣ“. Явились вы, — и точно свѣтъ внесли въ мою тьму! Ожилъ я съ вами. Пересталъ чувствовать себя напраснымъ и глупымъ. Прикажите мнѣ взяться за любое дѣло, — къ стыду моему, какое бы вы ни назвали, мнѣ, лѣнтяю и неучу, придется приниматься за него съ азбуки — и все-таки вѣрьте, оно будетъ по плечу мнѣ, если я стану работать до вашему желанію, съ вами, для васъ. Не отталкивайте меня!
И я приблизился къ Антонинѣ. Она, со страхомъ, отступила.
— Не подходите! — услыхалъ я ея шопотъ.
— Антонина Павловна!
— Я не смѣю ничего сказать вамъ… я не въ силахъ… Дайте мнѣ собраться съ мыслями! уйдите!
— Одно слово!…
— Я отвѣчу вамъ… но теперь, умоляю васъ, идите!.. Послѣ, послѣ…
Я поклонился и вышелъ. Вечеромъ я получилъ отъ Антонины письмо: „Долгъ запрещаетъ мнѣ писать вамъ, но я обѣщала отвѣтить, и пишу. Извините, если выйдетъ несвязно. Мысли мои разбрелись. Я думала о васъ. Вы правы: я люблю васъ, я еще настолько женщина, чтобы любить. Только довѣряя вашей чести, рѣшаюсь я да эти безумныя строки. Я всегда презирала пожилыхъ женщинъ, увлекающихся соблазнами поздней любви. Теперь я презираю себя. Я никогда не буду принадлежать вамъ: это позоръ. Не подозрѣвайте меня, будто я боюсь свѣта, — о, нѣтъ! за счастье быть вашей я перенесла бы его судъ! Но я не въ состояніи отдаться человѣку, не вѣря въ его любовь, а въ вашу вѣрить не могу: вы черезчуръ молоды для меня. Оставьте меня, забудьте. Ваше заблужденіе скоро пройдетъ, и, дастъ Богъ, вы найдете себѣ подругу до сердцу, достойную васъ, молодую. Не будемъ больше видѣться. Не пишите мнѣ, - я не хочу. Я люблю васъ и, повторяю, еще слишкомъ женщина. Ваше присутствіе, ваши слова растерзаютъ мнѣ сердце, потому что я хотѣла-бы вѣрить вамъ, а вѣрить нельзя. Въ мои годы, къ несчастью, могутъ еще любить, но уже не быть любимыми. Ваша А. P.“.
Я немедленно набросалъ отвѣтъ и послалъ Антонинѣ Павловнѣ. Съ часъ не возвращался мой человѣкъ. Наконецъ, мнѣ подали конвертъ, надписанный знакомымъ женскимъ почеркомъ. Внутри оказалось мое нераспечатанное письмо… На другой день я встрѣтилъ Антонину на Морской. Я собралъ весь остатокъ воли, чтобы говорить, по возможности, спокойно, и подошелъ къ Антонинѣ:
— Ваше письмо — бредъ! — сказалъ я, — я хочу быть счастливымъ… я добьюсь!
Она отвѣтила мнѣ умоляющимъ взглядомъ и — ни слова. Я продолжалъ:
— Счастье въ нашихъ рукахъ, зачѣмъ уступать его?
— Мы будемъ неправы…
— Передъ кѣмъ?
— Я - передъ вами, вы — предо мною, оба мы — передъ самими собой.
— Вы пишете, что не боитесь свѣта; не стыдитесь-же нашей любви!
— Я гордилась-бы ею, если-бы могла вѣрить.
— Узаконимъ ее и оправдаемъ себя передъ обществомъ: будьте моею женою.
— Никогда! Съ моей стороны было-бы нечестно налагать цѣпи на вашу молодость… Мнѣ сорокъ лѣтъ, а у васъ вся жизнь еще впереди.
— Антонина Павловна, вы губите меня!
— Я васъ спасаю!
Она отвернулась отъ меня и знакомъ подозвала свой экипажъ.
Цѣлую недѣлю затѣмъ я безпутничалъ, какъ никогда. Пьяный, я плакалъ. — Что за дурь нашла на тебя? — спрашивали меня пріятели, напиваясь на мой счетъ. Я ругался, но не проговаривался. Кутилъ-же я затѣмъ, что, трезваго, меня невыносимо тянуло къ Антонинѣ, а, хмелѣя, я былъ увѣренъ, что не пойду къ ней: никакія силы не заставили-бы меня показаться ей пьянымъ…