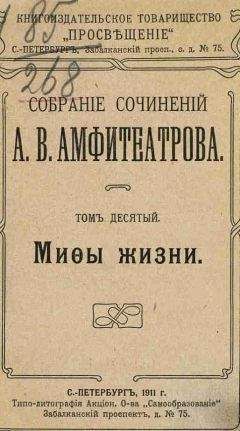Датико умолкъ.
— Долго ты лежалъ въ госпиталѣ? спросилъ я.
— Долго. Полтора мѣсяца. Тамъ я и по-русски выучился. Хорошо говорю?
— Отлично.
— То-то. Меня всѣ ваши хвалятъ… Ну, прощай! Знакомъ будешь! — убью что, тебѣ въ Пасанауръ продавать принесу.
И, пожавъ мнѣ руку, охотникъ скрылся за кустами. Долго еще я слышалъ стукъ его деревяшки и шумъ потревоженныхъ имъ вѣтвей.
Этотъ Датико сталъ для меня со дня нашего знакомства истиннымъ благодѣтелемъ. Благодаря ему, Пасанаурскій околотокъ сдѣлался мнѣ только-что не своимъ краемъ. Не говоря уже о томъ, что онъ зналъ каждый кустъ, каждую рытвину своей дикой родины, что каждый встрѣчный кланялся ему, какъ либо родному, либо другу, либо хорошему знакомому, и про каждаго-то Датико могъ разсказать всю его біографію отъ рожденія и до сего дня; сверхъ всего этого, Датико былъ еще по-истинѣ живою сокровищницей мѣстныхъ преданій, сказокъ и легендъ. Онѣ у него, точно пословицы у Санчо-Пансо, сыпались съ языка по всякому удобному и неудобному поводу. Старался ли онъ занимать ими меня, самъ ли ихъ любилъ, — не знаю, какъ сказать… вѣроятно, и то, и другое.
Помню какъ-то разъ, когда мы съ Датико бродили по ущелью Ахоби, насъ вымочилъ до нитки внезапно налетѣвшій изъ-за горы дождь. До Пасанаура отсюда верстъ десять, до деревни Ахоби также не близко; обсушиться негдѣ, а полагаться на сушку одеждъ, не снимая ихъ съ плечъ, солнечными лучами — опасная штука; вѣтеръ ущелій всегда не замедлитъ подарить лихорадкой. Всего досаднѣе было, что дождь упалъ на насъ чуть не съ яснаго неба; пока мы шли по Гудамакарскому ущелью, погода была хоть куда. Со стороны Пасанаура — безоблачная синева, по направленію къ Гудамакари тоже, и только развалистая Дзмашвиди-мта [4], гора, похожая на колоссальную палатку добрыхъ рыцарскихъ временъ, курилась сѣрыми тучками; именно у ея подножья мы свернули въ Ахоби и тотчасъ же наткнулись на сюрпризъ: глубь ущелья была застлана густымъ занавѣсомъ далекаго дождя. Мы было рѣшились перемѣнить направленіе нашего странствія л, не сворачивая, продолжать путь къ Гудамакари, но было поздно; если мы не пошли къ горѣ, то гора сама пошла къ намъ; занавѣсъ погнался за нами съ быстротой почтовой тройки, нагналъ и, окативъ ливнемъ, помчался дальше, оставивъ за собой, словно въ насмѣшку, чистѣйшее голубое небо. Я не удержался, чтобы не послать обидѣвшей насъ тучѣ энергическаго «чорта». Датико это не понравилось, и онъ прочелъ мнѣ длинную и обстоятельную нотацію, что ругаться въ горахъ вообще не слѣдъ, а ужъ поминать чорта въ особенности не годится: горные духи этого терпѣть не могутъ и въ отместку за каждое крѣпкое словцо непремѣнно сдѣлаютъ вамъ какую-нибудь мерзость. Въ заключеніе же подкрѣпилъ свои слова своеобразною сказкой о блуждающемъ осетинѣ, замѣняющемъ на Кавказѣ Вѣчнаго Жида и Летучаго Голландца…
Жилъ-былъ осетинъ, богатый и хорошій человѣкъ, но вздорнаго характера и великій ругатель. Въ дорогѣ, на работѣ, на охотѣ, - словомъ вездѣ и всегда онъ ругался, какъ язычникъ, и выводилъ этимъ изъ терпѣнія злого духа, обитающаго въ Трусовскомъ ущельѣ, гдѣ стоялъ аулъ осетина. Злоба нечистаго отличалась довольно дѣятельнымъ характеромъ; то баранта [5] у осетина пропадетъ, то обваломъ. придавитъ его ячменное поле, то самого осетина угораздитъ сверзиться съ горной тропинки и набить себѣ синяковъ и шишекъ по всему тѣлу, то лихорадкой его прохватитъ, то выйдетъ онъ на охоту, да и проходитъ цѣлый день съ неразряженнымъ ружьемъ: кромѣ чекалокъ, — хоть бы что на встрѣчу!… Надоѣла эта вражда осетину. Взялъ онъ двухъ барановъ, пригналъ ихъ въ Хевскій Сіонъ, закололъ въ церковной оградѣ и попросилъ батюшку отслужить молебенъ пророку Ильѣ, чтобъ этотъ, особенно уважаемый осетинами святой, — въ распоряженіи котораго находятся, по ихъ общему въ этомъ случаѣ со славянскимъ вѣрованію, и громы, и молнія, я котораго злые духи поэтому, какъ огня, боятся, — запретилъ трусовскому бѣсу обижать его баранту, поля, семейство, мѣшать ему на охотѣ и вредить его здоровью. Словомъ, какъ водится, обставилъ жертвоприношеніе самымъ обстоятельнымъ и подробнымъ условіемъ. На именно на этой-то подробности и поймалъ его нечистый. Послѣ жертвоприношенія бѣды, преслѣдовавшія осетина, прекратились мгновенно, на его голову вмѣсто прежнихъ несчастій, посыпались всевозможные дары судьбы, и осетину оставалось только богатѣть и благословлять своего заступника Св. Илью. Однажды онъ продалъ въ Коби знакомому пару буйволовъ, получилъ деньги, зашилъ бумажки для вѣрности въ папаху и помой въ Трусо. Переходя какой-то ручей, осетинъ вспомнилъ, какъ на этомъ самомъ мѣстѣ онъ когда-то, по кознямъ своего врага нечистаго, чуть-чуть не сломалъ себѣ ногу, и по старой памяти загнулъ горному духу крѣпкую «мама-дзаглу» [6]. Духъ выросъ предъ осетиномъ, какъ листъ передъ травой.
— Ты опять ругаться?! грозно воскликнулъ онъ.
— Опять! храбро огрызнулся осетинъ.
— Мало я тебя училъ?
— Теперь, братъ, больше учить меня тебѣ не придется, — съ насмѣшкой возразилъ осетинъ, — что ты мнѣ можешь сдѣлать? Св. Илья защититъ меня отъ тебя во всемъ. Я молился ему и о своемъ тѣлѣ, и о своихъ дѣтяхъ, и о скотѣ, и о ячменѣ…
— Но ты не молился о своей папахѣ! замѣтилъ нечистый и съ хохотомъ дунулъ на дерзкаго осетина; папаха слетѣла съ головы послѣдняго и покатилась вдоль по ущелью… Бѣдный осетинъ бросился догонять свою шапку и спрятанные въ ней рубли; вотъ-вотъ уже настигъ, протянулъ руку, чтобы схватить папаху, а ее подняло новымъ вихремъ и понесло дальше; то же повторилось и въ другой, и въ третій разъ; измучился осетинъ, а перестать гнаться за папахой не можетъ: еще бы! не малыя деньги зашиты въ ней!..
— Эй, ты! кричитъ онъ злому духу, — отдай папаху! пошутилъ, да и будетъ!
— Отдамъ, только попроси у меня прощенія и поклянись, что больше не будешь меня бранить.
Озлился, осетинъ.
— Ну, ужъ этого ты не дождешься! Скорѣе я до скончанія вѣка прогоняюсь за этою папахой, чѣмъ буду просить прощенія у такой донгузъ [7], какъ ты!
— Гоняйся! коротко отвѣтилъ духъ и исчезъ. А злополучный осетинъ и по сію пору мечется въ горныхъ ущельяхъ, ловя свою драгоцѣнную, вѣчно ускользающую отъ него папаху. Видали его и на Казбекѣ, и въ Кайшаурахъ, и въ Кабардѣ, и въ Дагестанѣ: носится бѣднякъ, какъ вихорь, по всему Кавказу игрушкой оскорбленнаго бѣса, и не остановиться ему, согласно собственной своей клятвѣ, до самаго свѣтопреставленія.
1907
Давидъ.
Человѣкъ, малый, молодецъ.
Обувь съ соломенною подошвой, перетянутою ремнями.
Гора Семи Братьевъ. Одноименная, но совсѣмъ другая гора видна съ Гудаурскаго спуска къ Млетамъ. Ихъ не слѣдуетъ смѣшивать.
Мелкій скотъ: овцы, козы.
Мама — по груз. отецъ, дзнгла — собака.
По-татарски — свинья.