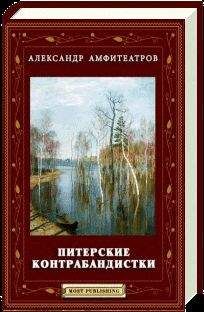В Петербурге ко мне явился тоже как-то утром очень учтивый и порядочный на вид француз, — по типу commis[2] из очень хорошего джентльменского дома. Он рекомендовался мне племянником мадам Дюран, показал доверенность от нее и принял сундук по описи… Больше я его не видела.
Зато из вещей, бывших в сундуке, стала видеть очень много потом в сезоне — то на одной нашей mondaine,[3] то на другой…
Спрашиваю Лили Беззубову:
— Где вы купили этот валансьен? В Париже, конечно? Здесь у нас нельзя найти такого.
— Нет, представьте, — именно здесь, в Петербурге.
Называет адрес и шепчет:
— Только не выдавать. Это я вам — по дружбе. Мне самой продали под страшным секретом. Говорят, что контрабанда.
А я отлично узнаю, что это тот самый, который, по поручению мадам Дюран, приехал из Парижа в знаменитом сундуке. Следовательно, не посылала она никаким родственникам никаких подарков, а все вещи были просто-напросто для торговли и отчаянно контрабандные. И мне вдруг стало стыдно и страшно:
— Как же это так? Ведь я, кажется, нечаянно попала в контрабандистки?
И так меня мучила эта мысль: ах, что, если узнают? Ах, что тогда со мной сделают? — что я не выдержала, во всем призналась мужу. Он ужасно рассердился, бранил меня, каялся, что сам, собственноручно напишет письмо главному таможенному начальству, чтобы тот отдал приказание впредь осматривать мои вещи как можно строже, напугал меня, расстроил, пригрозил, что больше не пустит меня одну за границу…
Сижу и плачу. Приезжает мой друг Фофочка Лейст. Вы ее знаете.
— Что с вами?
У меня от нее тайн нет. Рассказала.
Она подняла свой маленький нос, посмотрела на меня с видом неизмеримого превосходства, точно она на вершине пирамиды, а я на дне глубокого колодца, и сказала, картавя:
— Милая, какое вы еще дитя.
— Да! Дитя! И вы были бы дитя, если бы муж вам сделал такую сцену.
— Все мужья делают сцены.
— Сцены сценам рознь. Если сцена из пустяков и я права — пусть. Это даже приятно. Но когда сознаешь себя виноватой…
— А зачем же вы сознаете себя виноватой? Вы не сознавайте! Это не надо!
— Как не надо? Говорю вам: муж совершенно прав…
— О нет, муж никогда не может и не должен быть совершенно правым.
— Но поймите, ведь я действительно попала в очень некрасивую историю и провезла через границу дорогую контрабанду.
Фофочка опять:
— Дитя! Нет, вы дитя!..
Я рассердилась, наконец:
— Дитя! Дитя! Легко говорить: дитя, — а посмотрела бы я вас на моем месте. Дитя! Дитя! А почему я «дитя»?
А Фофочка, ничуть не смущаась:
— Потому что — с кем же из нас, бедных путешественниц, того же не бывало? Но только дети имеют наивность говорить вслух о своих маленьких секретах…
* * *
Лет семь тому назад я жил в центре Петербурга, в огромном доме, на четвертом этаже. Окна моего кабинета приходились как раз к внутреннему углу квадратного корпуса, так что, живя на одном катете каменного прямого угла, я в каких-нибудь двух саженях по гипотенузе имел перед собой ближайшее окно другого катета и часто волей-неволей становился свидетелем протекавшей за ним жизни. Хозяйка окна была дама пожилая, восточного типа, со следами былой красоты. Часто мелькали за окном по-домашнему одетые барышни, довольно красивые, тоже полувосточного неопределенного типа. Мужчин за окном я не видал ни разу. Зато дам — множество и, к изумлению моему, часто очень мне знакомых. Посещали таинственную квартиру актрисы, иногда даже знаменитые; проносились бледные профили тех львиц, которых «Листок» и «Газета» поминают «оазар», описывая балы, концерты, рауты; бывали и обыкновенные смертные, нарядные, сытые буржуазки.
Грешный человек, сперва я думал, что передо мной — тайная квартира для свиданий. Но, во-первых, повторяю: за окном никогда не видно было ни одной мужской фигуры; во-вторых, однажды я заметил у окна в живом разговоре с хозяйкой квартиры, супругу моего соседа и приятеля — даму пожилую, прекраснейшую и добродетельнейшую, которой, как жены цезаря, не должно было и не могло касаться подозрение.
Встречаю вскоре потом почтеннейшую Анфису Гавриловну на лестнице: подъезд у нас был общий. Говорю:
— А я вас видел на днях вот где и вот как…
Милая дама залилась румянцем, да — как расхохоталась:
— Да ну? Что вы? Вот так попалась я. Вы смотрите: мужу не расскажите. Он мне задаст.
— Вот как? Однако! Ой-ой! Анфиса Гавриловна! Что-то неладно…
— Что уж хорошего? — вздыхает она, — но знаете: баба я слабая… соблазн так силен… Согрешила на старости лет, окаянная…
— Анфиса Гавриловна!!!
— Да полно вам… Не то, что вы думаете… И вообще, ничего особенного… А только ваша братья, мужчины, не очень то долюбливают хозяйку этой квартиры.
— За что?
— Говорят, будто много мы, бабы, ей денег носим.
Я смиренно повторил:
— За что?
— А уж это не ваше дело. Много будете знать — скоро состаритесь.
В другой раз, много позже, приезжаю к приятелю, чиновному литератору, как зван был, завтракать. Хозяина еще нет дома, не приходил со службы. Хозяйка встретила меня какая-то растерянная, с заметным смущением, сунула мне в руки газету и, извиняясь, что сейчас-сейчас вернется меня занимать, скрылась куда-то внутрь квартиры. Из соседней комнаты долго доносилось ко мне оживленное шушуканье двух женских голосов. Но вот — в передней задребезжал резкий хозяйский звонок. Шушуканье оборвалось и сию же минуту мимо меня во весь дух, опрометью, бурей помчалась по направлению к кухне, на черный выход, с узлом подмышкой хозяйка знакомого мне окна. А жена моего приятеля проходя мимо меня навстречу мужу, сделала мне такой выразительный знак молчания, что я поспешил принять самое невинное выражение, на какое только способно мое лицо:
— Никого видом не видал, слыхом не слыхал…
Жена моего приятеля — хорошая дама, совестливая. Не любит и боится, чтобы о ней не только говорили, но даже думали дурно. Поэтому, возымев со мной общую тайну, она возымела и настоятельную потребность оправдаться, «чтобы вы не вообразили чего-нибудь худого».
— Поверьте мне: эта дама очень милая, она не занимается ничей дурным. Но я не смею принимать ее явно, потому что Лев ее терпеть не может. Ее все мужья ненавидят.
— Но кто же она, наконец?
— Фамилии не знаю. Никогда не знала. Да, кажется, и никто не знает. У нее нет фамилии.
— Батюшки, да это Расплюев какой-то в юбке! Ведь только почтеннейший Иван Антонович пытался уверить квартального надзирателя, что — «я без фамилии, у меня нет фамилии»…
— Да нет же! Какой Расплюев? Очень скромная, честная… Ну… ее все знают… Вероятно, приходилось слыхать… Это — Дина-контрабандистка…
— Ах, вот в чем дело… Слыхал, слыхал… Своего рода знаменитость.
— Что делать, мой добрый друг? — трагикомически вздохнула собеседница, — мы получаем так мало, а одеваться прилично в Петербурге так дорого. Если бы не Дина-благодетельница, мы, жены чиновников среднего оклада, все были бы одеты, как чумички.
— Но, в таком случае, за что же ненавидят ее мужья? Им бы, наоборот, следовало чтить ее и любить, — адрес бы ей благодарственный, что ли…
— И, конечно, следовало бы. Но разве с вами, мужчинами, можно сговориться по-человечески? Вы сотканы из предубеждений. Мой супруг, на что добр и мягок, а при одном имени Дины просто тигром каким-то становится. Послушать его, так и краденое то она нам продает, и записки то любовные из дома в дом переносит, и в уголовщину то нас когда-нибудь запутает и шантажа то мы не оберемся…
— Я, не зная вашей Дины, не решусь быть столь мрачным пророком, однако, по-видимому, личность, действительно, темная и большого доверия не заслуживает.
— Ах, Боже мой! Как будто я рада знать ее? Я была бы очень счастлива никогда не видать ее, не пускать к себе на порог и позабыть о ее существовании. Пусть мой Левушка отпустит мне сто рублей в месяц на туалеты и я изменяю Дине навеки: все буду закупать в магазинах. Но ведь ему это не под силу, — тогда о чем же и толковать? У Дины я имею за тридцать, за сорок рублей вещи, за которые в Гостинном надо отдать сто, полтораста, а уж про Морскую я не решаюсь и мечтать…
— А вы не находите, что сто рублей в месяц на туалет — это немножко чересчур широкая роскошь, при пятитысячном годовом доходе?
— Очень нахожу, — серьезно возразила она, — но что же делать? Моды растут в цене с года на год. А Петербург — точно с ума сошел: с года на год надо одеваться все роскошнее, все дороже. Дешевле, чем я вам сказала, трудно одеться не только хорошо, — где уж нам! — но просто хоть сколько-нибудь прилично, по нынешним диким требованиям. А то — хоть не выезжай вовсе, сиди дома: хуже других не радость быть… Да и супруг первый же начнет воркотню: «Что это ты, матушка? На что похожа? Всякую женственность утратила, даже собой заняться лень, одеться хорошо не умеешь. Клеопатра Львовна, Нонна Сергеевна — словно картинки, а ты, рядом с ними, допотопная какая-то точно горничная в старом платье, подаренном барыней… Еще люди дурно подумают, станут говорить, что я скуп, мало выдаю тебе на туалеты… Так вот и понимайте: надо, чтобы и одета была по последней картинке, и чтобы за грош пятаков наменять…» Голь на выдумки хитра: умудряемся кой-как, при помощи Дины. А вы, господа, видя, что она вечно при нас вертится, да деньги мы ей платим, да в долгу мы у нее все, как в шелку, воображаете, будто она наша грабительница и соблазнительница, женский Мефистофель какой-то… И, уж если бы вы знали, сколько неприятностей переносит она от вашего брата! И — каких! Подумать страшно.