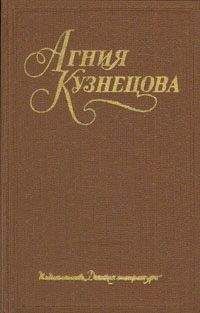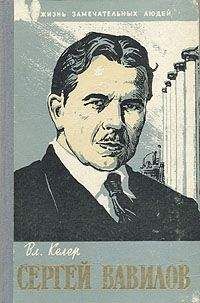Вавилов сдал однорукому счетоводу Шепунову колхозные деньги, полученные им накануне в районной конторе Госбанка, получил расписку, сложил вчетверо и положил в карман.
— Ну всё, до копеечки, — сказал он, — перед колхозом я не виноват ни в чем.
Шепунов, позванивая медалью «За боевые заслуги» о металлическую пуговицу на гимнастёрке, подвинул в сторону Вавилова лежавшую на столе районную газету и спросил:
— Читал, товарищ Вавилов, «В последний час»? Успешное наступление наших войск на Харьковском направлении, от Советского Информбюро?
— Нет, — ответил Вавилов.
Шепунов, заглядывая в газету, стал читать
— «12 мая наши войска, перейдя в наступление на Харьковском направлении, прорвали оборону немецких войск и, отразив контратаки крупных танковых соединений и мотопехоты, продвигаются на Запад. — Он поднял палец, подмигнул Вавилову: — ...продвинулись на глубину 20-60 километров и освободили свыше 300 населённых пунктов. « Вот и пишут «захвачено орудий 365, танков 25, а патронов около 1.000.000 штук...
Он посмотрел на Вавилова с дружелюбием старого солдата к новичку и спросил:
— Понял теперь?
Вавилов показал ему повестку из военкомата.
— Понял, отчего ж я не понял... Я и другое понял это только начало, а к самому делу как раз и я поспею, — и он разгладил повестку на ладони.
— Может, передать что-нибудь Ивану Михайловичу? — спросил счетовод.
— Что ж ему передавать, он и сам всё знает. Они заговорили о колхозных делах, и Вавилов, забыв о том, что председатель «сам всё знает», стал наказывать Шепунову:
— Ты передай Ивану Михайловичу доски, что я с лесопильного завода привез, пусть на ремонт не пускает, для стройки пустит. Так и скажи. Потом насчёт мешков наших, что в районе остались. Надо человека послать, а то пропадут, либо заменят их нам. Потом насчёт оформления ссуды... так и скажи — Вавилов передал...
В колхозе Вавилова многие побаивались — бывал он резок и прям. Но ему верили и уважали его.
Он шел обратно к дому по пустой улице и все ускорял шаги. Его нестерпимо тянуло вновь увидеть детей, дом, казалось — всем телом, не только умом ощутил он тоску близкого расставания.
Он вошёл в дом, и всё в доме было знакомо и известно, и всё знакомое и известное показалось новым, волновало и трогало душу. И комод, покрытый вязаной скатертью, и подшитые валенки с черными заплатами, и ходики, висевшие над широкой кроватью, и фотографии родных в застеклённой раме, и большая легкая кружка из тонкой белой жести, и маленькая тяжёлая кружка из темной меди, и стираные вылинявшие серые штанишки Ванюши, отливающие какой-то грустной, неясной голубизной. И сама изба внутри имела удивительное свойство, присущее русским избам, — была одновременно тесна и просторна... Как в этой избе хороши были дети! С утра, топоча босыми ножками, пробежит Ваня по полу, светлоголовый, точно живой тёплый цветочек...
Вавилов помог Ване влезть на высокий стул, и сквозь шершавую мозолистую ладонь дошло до него тепло родного детского тела, а весёлые ясные глаза подарили его доверчивым и чистым взором, и голос крошечного человека, ни разу не оказавшего грубого слова, не выкурившего ни одной папироски, не выпившего и капли вина, спросил:
— Папаня, правда ты завтра на войну идешь?
Вавилов усмехнулся, и глаза его стали влажными.
Ночью Вавилов при лунном свете рубил сложенные под навесом за сараем пеньки. Эти пеньки в течение многих лет собирались во дворе, были они ободраны и оббиты остались в них лишь перекрученные в узлы связанные волокна, которые ни расколоть, ни рассечь, а лишь можно разодрать.
Марья Николаевна, высокая, плечистая, такая же, как и Вавилов, темнолицая, стояла возле него и время от времени нагибалась, подбирала отлетевшие далеко в сторону куски дерева, искоса поглядывая на мужа. И он оглядывался, то взмахивая топором, то наклоняясь. Он видел ее ноги, край платья, то вдруг, распрямившись, смотрел на ее большой тонкогубый рот, пристальные и тёмные глаза, высокий, выпуклый, без морщин, ясный лоб. А иногда, распрямившись, они стояли рядом и казались братом и сестрой, так одинаково отковала их жизнь, трудный труд не согнул их, а расправил. Они оба молчали, это было их прощание. Он бил топором по упружащему, одновременно мягкому и неподатливому дереву, и от удара охала эемля, охало в груди у Вавилова, яркое лезвие топора при свете луны было синим, оно то вспыхивало, занесённое высоко вверх, то гасло, устремляясь к земле.
Тихо было кругом. Лунный свет, словно мягкое, льняное масло, покрывал землю, траву, широкие поля молодой ржи, крыши изб, расплывался в окошечках и в лужах.
Вавилов обтёр тыльной частью ладони вспотевший лоб и поглядел на небо. Казалось, припекло его летним горячим солнцем, но высоко в небе стояло бескровное, ночное светило.
— Хватит, — сказала ему жена, — на всю войну все равно не напасёшь.
Он оглянулся на гору нарубленных дров.
— Ладно, придем с Алексеем с войны, ещё дров тебе наколем. — И он обтёр ладонью лезвие топора так же, как только что обтёр свои вспотевший лоб.
Вавилов вынул кисет и свернул папиросу, закурил, махорочный дым медленно расплывался в неподвижном воздухе.
Они зашли в дом. Тепло дохнуло в лицо, слышалось дыхание опавших детей. Этот спокойный сумрак, этот воздух, головы детей, белевшие в полутьме, — это была его жизнь, его любовь, его счастливая судьба. Ему вспомнилось, как он жил здесь холостым парнем — ходил в синих галифе, в будённовке со звездой, курил трубочку с крышечкой, которую старший брат привёз с германской войны. Этой трубочкой он гордился, она придавала ему лихой вид, и люди брали её в руки и говорили: «хорошая вещь, интересная вещь». Он потерял её перед женитьбой.
Он увидел лицо спавшей Насти и оглянулся на жену, и лучшим счастьем в мире показалось ему быть в этой избе, не уходить из неё. Этот именно миг стал самым горьким в его жизни — миг, когда не умом, не мыслью, а глазами, кожей, костями ощутил он в этой сонной предрассветной тишине злую силу врага, которому нет дела до Вавилова, ни до того, что он любил и чего хотел. И с острой мукой и тревогой смешалось чувство любви к детям и жене. На минуту он забыл, что его судьба, судьба опавших на постели детей слилась с судьбой страны и жившего в ней народа, что судьба колхоза, в котором он жил, и судьба огромных каменных городов с миллионами горожан были едины. В горький час сердце его сжалось той болью, которая не знает и не хочет ни утешения, ни понимания. Ему лишь одного хотелось: жить в тех дровах, которые жена будет зимой класть в печь, в той соли, которой она будет солить картошку и хлеб, в том зерне, что привезёт она за его трудодни. И он знал, что жить ему в их мыслях и воспоминаниях, и в пору обилия, и в дни недостачи, в час нужды.
Жена заговорила быстро, тихо, о детях и доме и словно упрекала мужа, точно он уходил по своему легкомыслию.
Ему стало обидно, но он понимал, что ей тяжело и она говорит всё это, чтобы не прорвались из души тяжесть и боль.
Он не стал спорить с ней, а потом, когда она замолчала, спросил:
— Собрала мне, что говорил?
Она положила на стол мешок и сказала:
— В мешке весу больше, чем в вещах твоих.
— Ничего, легче итти будет, — примирительно оказал он. И действительно, весу в мешке было не много: хлеб, скрипящие ржаные сухари, кусок сала, немного сахару, кружка, иголка с моточком ниток, фуфайка, две пары белья, две пары стираных портянок.
— Рукавицы положить? — спросила она.
— Нет. И фуфайку оставлю, пусть Насте будет, мне выдадут, — сказал Вавилов.
Марья Николаевна молча согласилась, отложила фуфайку в сторону.
— Папаня, — сказала сонным голосом Настя, — а, папаня, да вы бы фуфайку свою взяли, мне зачем она?
— Спи, спи, — сказала мать, передразнивая её сонный голос, — фуфайку, фуфайку... а сама в чём ходить будешь, вот пошлют зимой окопы копать, будешь знать тогда.
Вавилов сказал дочке:
— Ты не думай — строгий, я тебя жалею, я тебя люблю, глупенькую.
И девочка заплакала, припала щекой к его руке, оказала.
— Папенька.
— А то возьми фуфайку, — сказала жена.
— Вы хоть письма нам пишите, — всхлипнула Настя. Ему многое хотелось сказать, десятки незначительных и важных вещей, в них он выразил бы свою любовь, а не только заботу о хозяйстве про то, что надо получше укрыть зимой от мороза молодое сливовое дерево, про то, чтобы не забыли перебрать картошку — она начала преть, про то, чтобы попросить председателя насчёт ремонта печки. Хотелось сказать про эту войну, на которую пошёл весь народ, и сын их пошёл, и вот отцу пришло время пойти.
Но столько было мелкого и важного, значительного и пустякового, что он не стал говорить, все равно всего не высказать.
— Так, Марья, — сказал он, — давай я вам напоследок воды наношу.
Он взял вёдра и пошел к колодцу. Ведро, погромыхивая об осклизлые стенки сруба, шло вниз Вавилов наклонился над колодцем, и на него пахнуло холодной влагой, и чёрный мрак ударил по глазам. В этот миг он подумал о смерти.