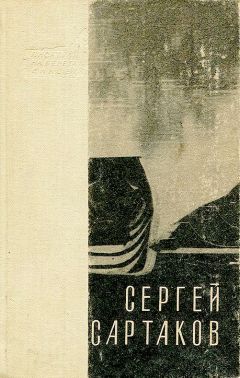Из кабинета вышел отец, и с ним полковник Розен, который когда-то был женихом сестры отца, умершей в молодости. Путя не смел на отца взглянуть, .и, когда большая ладонь знакомым теплом коснулась его виска, он покраснел до слез. Невозможно, нестерпимо думать, что этому человеку, лучше которого нет в мире, предстоит драться с каким-то туманным Туманским,-- на чем? На пистолетах? На шпагах? Почему все молчат об этом? Знают ли что-нибудь слуги, гувернантка, мать в Ментоне? Полковник Розен за обедом острил, как острил всегда, сухо, кратко, будто раскалывал орехи, но сегодня Путя не смеялся, а поминутно заливался краской и, скрывая это, нарочно ронял салфетку, чтобы тихонько под столом отойти, вернуться к нормальному цвету, но вылезал оттуда еще краснее прежнего, и отец поднимал брови, посмеивался,-- и, не спеша, со свойственной ему ровностью, исполнял обряд обеда, осторожно глотал вино из плоской золотой чарочки. Полковник продолжал острить. Мисс Шелдон, не понимавшая по-русски, молчала, строго выпятив грудь, и когда Путя горбился, неприятно подталкивала его под лопатки. На сладкое подали фисташковое парфэ, которое он ненавидел.
По окончании обеда, отец и полковник поднялись в кабинет пить кофе. У Пути был такой странный вид, что отец спросил: "Путя, в чем дело? Почему ты кислый?" И каким-то чудом Путе удалось ответить: "Нет, я не кислый". Мисс Шелдон увела его спать. Как только погас свет, он уткнулся лицом в подушку. Онегин скидывал плащ, Ленский, как черный мешок, падал на подмостки. У итальянца, сзади из шеи, торчал конец клинка. Маскара любил рассказывать, как в молодости он имел une affaire-- полсантиметра ниже, и была бы проткнута печень. И уроки на завтра не сделаны, и тьма кромешная в комнате, и нужно будет непременно встать пораньше, пораньше,-- лучше не закрывать глаз, а то проспишь,-- ведь это, наверное, назначено на завтра. Пропущу школу, пропущу, я скажу, что горло. Мама вернется только на Рождество. Ментона, голубые виды. Вставить последнюю открытку в альбом. Один уголок вошел, другой...
Проснулся Путя, как всегда, около восьми, как всегда услышал звон: это звякнул печной заслонкой истопник. Когда, спеша, с влажными еще волосами, он спустился вниз, отец, как ни в чем ни бывало, занимался боксом с французом. "Горло болит?"-переспросил отец. "Да. Першит",-- тихо ответил Путя. "А ты не врешь?" Путя почувствовал, что всякие дальнейшие объяснения опасны,-- вот лопнет плотина, хлынет .постыдный поток. Он молча повернулся и через минуту сидел в автомобиле, держа на коленях ранец. Поташнивало. Все было ужасно и непоправимо.
Он опоздал на первый урок,-- долго стоял с поднятой рукой за стеклянной дверью, но в класс не был впущен,-- и пошел слоняться по залу, потом сел на подоконник, решил было просмотреть заданные уроки, но вместо этого в тысячный раз стад воображать, как это все будет,-- на морозе, в рассветном тумане... Как выведать условленный день? Как узнать подробности? Если б уже быть в восьмом классе, нет, хотя бы в седьмом... Тогда предложить: я тебя заменю.
Наконец,-- звонок. Зал наполнился шумом. "Ну, что, доволен? Доволен?"-- спросил Дима Корф, подскочив к Путе. Путя посмотрел на него с тоскливым недоумением. "У Андрея внизу газета,-- взволнованно сказал Дима,-- Пойдем, мы успеем, я тебе покажу. Но какой ты странный... Я бы на твоем месте..."
Внизу на табурете сидел швейцар Андрей и читал. Он поднял глаза и улыбнулся. "Вот тут, вот",-- сказал Дима. Путя взял газету и сквозь дрожащую муть прочел: "Вчера, в 3 часа дня, на Крестовском острове, между Г. Д. Шишковым и графом А. С. Туманским состоялась дуэль, окончившаяся, к счастью, бескровно. Граф Туманский, стрелявший первым, дал промах, после чего его противник выстрелил в воздух. Секундантами со стороны...".
Тут воды прорвались. Швейцар и Дима старались успокоить его,-- он отталкивал их, дергался, отстранял лицо, невозможно было дышать, никогда еще не бывало таких рыданий, не говорите, пожалуйста, не рассказывайте никому, это я нездоров, у меня болит... И снова рыдания.