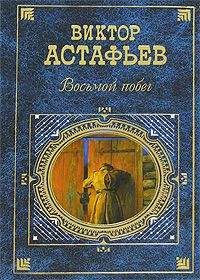Пете дали грамоту с печатью. Грамота до сих пор под стеклом в сельсовете висит.
Самыкин отлежал в больнице, окончил курсы в городе и работает заведующим ремонтными мастерскими при центральной усадьбе леспромхоза. Зойка давно вышла за него замуж, родила двух сынов и зовет Егора Романовича кумом, хотя, как человек партийный, он согласия своего крестить ребенка Самыкиных не давал. Но Самыкины окрестили ребенка тайком и поставили Стрельцова перед фактом.
От Окорихинского лесоучастка до станции километров тридцать. Однако Егор Романович все равно использовал самому себе назначенную льготу и на каждое воскресенье ездил свидеться с сыном — Петенькой, с семьей, помыться в бане, отдохнуть.
Как-то летнею субботой, покончив с делами, Егор Романович заседлал коня и поехал домой. У него была некорыстная с виду, мухортая лошаденка, с побитыми работой ногами, уже непригодная на лесовывозки. Конишка так привык к Егору Романовичу, а Егор Романович к конишке, что они хорошо понимали друг друга, и если случалось хозяину переложить за воротник, то он и засыпал на уютной спине Мухортого. Конь привозил его домой, бил копытом в крыльцо, как сказочный Сивка-Бурка. Первым обычно выскакивал Петя, снимал с Мухортого седло и насыпал ему овса за верную службу.
В тот субботний день с лесоучастка Егор Романович выехал сразу после обеда, рассчитывая к вечеру быть дома и поспеть в баню.
Мухортый шел споро. Они перевалили через седловину и оказались возле речки Свадебной. Начиналась она далеко, в крутом распадке, и впадала в Чизьву километров на восемь выше Окорихинского поселка.
Вот и речка оказалась позади. Мухортый вынес Егора Романовича еще на один перевал и пошел медленней, потому что уморился на крутом подъеме, да и тропа здесь едва угадывалась — с нее легко было сбиться.
Стрельцов не погонял коня. Он доверял ему в пути целиком и полностью. И надо сказать, Мухортый никогда не хитрил, и где как надо было идти, так и шел.
Вольготно покачивался Егор Романович в седле и думал о том, что вот через месячишко возьмет отпуск и поедет с Петенькой в Москву. Денег он маленько подкопил, да еще премию, глядишь, получит за перевыполнение квартального плана Окорихинским участком. — будет полный порядок. В зоопарк сходят, в цирк, в магазин «Детский мир», в метро, на Сельскохозяйственную выставку — пусть смотрит малец на все чудеса, какие не довелось видеть старшим его братьям и сестрам. Они в войну росли, в трудные годы. Так же, как отец, рано стали зарабатывать свой хлеб. Выросли незаметно в трудах и заботах, живут уже своими семьями и детей своих имеют. Пусть за них за всех надивится Петенька на столичные чудеса. Пусть мороженого до отвала поест. Старшие в детстве его и не пробовали. Картошке были рады. А потом и Петя улетит из-под родительского крыла. Так уж в жизни ведется.
Размышляя обо всем этом. Егор Романович тихонько напевал, как может напевать человек в лесу, зная, что его никто не слушает и никому он голосом своим не досаждает.
Ты привык с посторонними шататься,
Ты привык посторонних любить.
Надо мной ты пришел надсмеяться,
Молодую мне жизнь загубить…
Пел Стрельцов эту песню про одну недоверчивую женщину и не вдруг заметил, что поет он один, а птицы-синицы смолкли, притаились и в тайге сделалось сумеречно. Мухортый тревожно фыркпул, и тут Стрельцов очнулся и обнаружил перемены вокруг.
Он приостановил Мухортого, огляделся и, пробормотав: «Что за оказия?», достал из кармана часы. С трудом разглядел он циферблат — так быстро сгущалась темнота в лесу.
Было четверть третьего, по-летнему почти полдень, а казалось — настала ночь. «Неужто затмение?» — пронеслось во встревоженной голове Стрельцова, но уже нельзя было ничего угадать, так черно сделалось в небе, и к тому же Егор Романович видел затмение, знал, что тишина в самом деле наступает, но уж не такая оторопная.
Где-то вдалеке, как будто в тридевятом царстве, послышался гул, и сделалось так темно, что теперь уже и головы Мухортого не видно было. Конь мелко дрожал под седлом и с места не двигался. Егор Романович слез с седла, и в это время над головой полоснула молния, потом другая, третья, ударил гром, налетел порыв ветра, лес качнулся и перекатно зашумел. Потом еще рвало черноту молниями, но уже ярче и понизу, гром бил оглушительней, деревья сплошь наклонились, заскрипели корнями, стоном застонали сушины. Вверху на сопке, как кость, хрястнула сухостоина и покатилась в распадок с грохотом и бряком.
И тут все смолкло и остановилось. Лишь вдали столь много сыпалось беззвучных молний, что они уже переплелись, как белые коренья в подмытом яру.
Тут только Стрельцова осенило, что надо как можно скорее утекать из леса на голое место, иначе зашибет.
Он потянул за повод Мухортого. Конь неохотно сдвинулся с места, а вскорости начал делать ноги скамейкой, упираться. Егор Романович рассердился было на Мухортого, прикрикнул даже, но тут же сообразил, что Мухортый, пожалуй, прав: в такой темноте дважды два свалиться в распадок.
А темнота все густела и надвигалась. На лес, на горы, на Егора Романовича с конем начала оседать сухая хвоя, удушливая пыль. Стрельцов закашлял. Мухортый тоскливо заржал.
— Что ты, что ты? — боязливо похлопал по шee смирного копя Егор Романович, и Мухортый притих, только перебирал ногами. Сквозь пыль пробилось несколько капель дождя. Они пулями хлестанули по коже седла и по лицу Егора Романовича. И тут же все озарилось ярчайшим бледно-голубым светом и ахнул гром.
Вслед за этим рвануло лес, и на человека, на лошадь посыпались еловые шишки, сучки, и все так же густо шла в темноте пыль. Где-то уже совсем близко хрустели, стонали, трещали и лопались, как снаряды, гибнущие деревья. Сверкнуло еще ярче, еще длиннее. Егор Романович увидел над озарившейся сопкой, которая оказалась почему-то совсем близко, черные веретена и не сразу догадался, что это в огромной выси вьются выдернутые с корнем елки. И еще ему показалось — на самой вершине сопки стоит человек с поднявшимися на голове волосами и словно бы молится, воздев руки к небу, как шаман.
— Мама родная! — охнул Егор Романович. — Неужто блазнится?
Но сопка озарялась еще и еще, и Стрельцов теперь уже явственно видел на ней человека, призрачного в сполохах молний. Он бросился бежать к сопке. Он боялся, чтобы человек не исчез, чтоб не оказался видением. Он запинался, падал. Его било по лицу и царапало, хватало за одежду. Он вырывался, оставляя где лоскут рубахи, где телогрейки клок.
Дышать сделалось совсем трудно. Горло забивало пылью. Сердцу недоставало воздуха. Пот заливал глаза.
Егор Романович быстро обессилел и свалился. Вокруг него рушилась тайга, бесновался ветер, гудела и выла куда-то несущаяся земля.
— Человек! Где ты? — пересиливая себя, закричал Егор Романович, приподнявшись. И тут на него сверху с треском повалилось дерево.
Он ощутил на лице волну холода, гонимого деревом, закрылся руками и на время вышел из памяти.
Очнулся, ощупал над собой и вокруг — оказалось, упала пихта и задавила бы его, захлестнула бы, но угодила на прежде свалившиеся лесины, и накрест лежавшие деревья сдержали удар.
Егор Романович рванулся к корню пихты. В спину ему впился сломленный сук. Ему распластало кожу на пояснице, но боль он чувствовал, как вспышку спички, и тут же перестал ее слышать, тут же страхом все погасило.
В яме, подле вывороченного корневища, Егор Романович съежился котенком, стараясь как можно меньше занимать места и влезть поглубже в сыпучую, каменистую землю.
Однако он опамятовал скоро, вспомнил про человека на сопке.
«Может, изувечен? Может, в помощи нуждается? Может, это даже дите — одно, в тайге? Пошел по ягоды ребенок и попал в этакое светопреставленье?..»
И лишь представился Егору Романовичу ребенок, а все ребенки на свете представлялись ему с обликом Петеньки, с его беспомощностью, — Егор Романович перебежками, как в бою, двинулся к сопке, то озаряемой молниями, то проваливающейся во тьму.
Он выбрался на лесную кулигу, где лежала прибитая к земле, белая в отсветах молний трава и никли головки словно бы стеклянных цветов.
Мало читавший книг из-за слабой грамотности и вечной занятости, Егор Романович до этой минуты, до этой кулиги не сомневался в том, что разразилась буря над тайгой, и, хоть буря невиданная, страшная, он все же владел собою, и если боялся, то боялся как бури, и только.
Но, увидевши стеклянную траву на кулиге, приплюснутые к земле цветы, как будто льдинки, со звоном рассыпающиеся, внезапно подумал он: «Да уж не война ли атомная началася?..»
Ударенный такою мыслью, он тут же и подтверждение ее нашел: темь, гром, дышать нечем, цветы обмерзли, трава в последнем ядовитом озарении…
И в катастрофе, постигшей землю, почему-то живой лишь он один… Да еще Петенька, бросившийся искать спасения у отца.